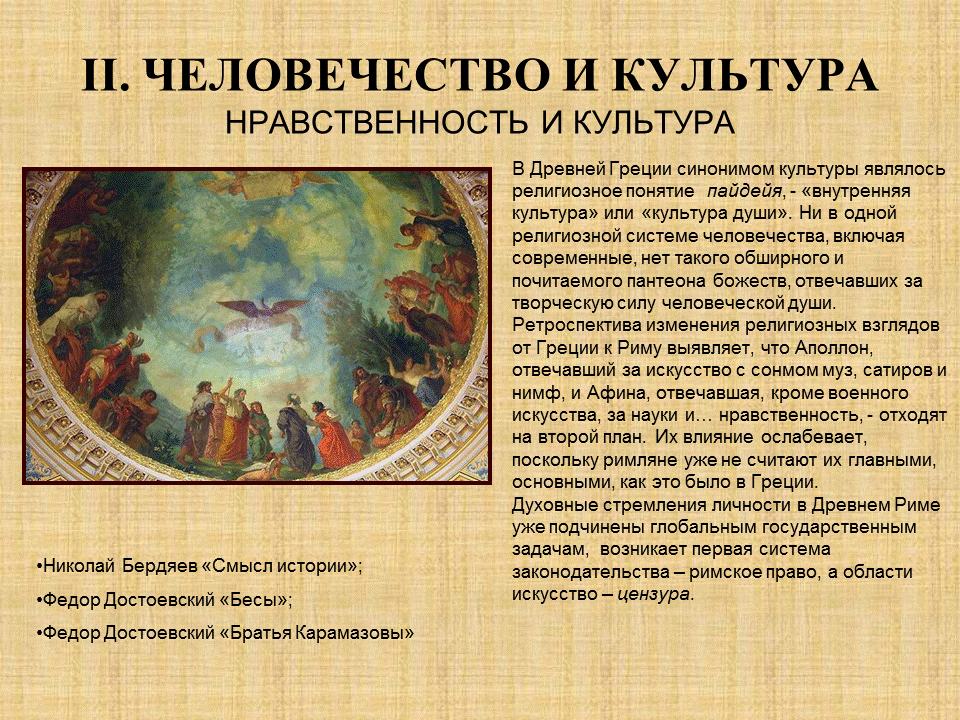Дедюхова И.А. Нравственные критерии анализа « Книжная лавка (original) (raw)
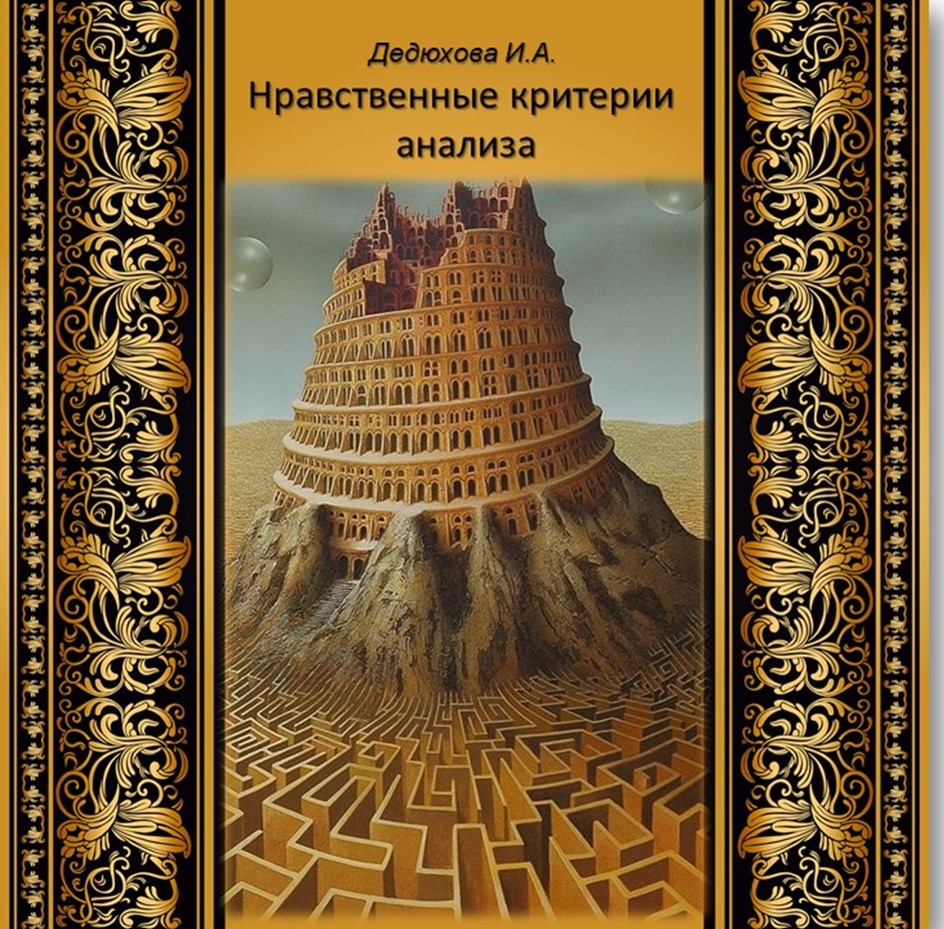 Публицистический цикл «Нравственные критерии анализа» охватывает как микроуровень отдельного человека, где лишь искусство является спобом сохранения человеческой уникальности и индивидуальности, — так и макроуровень, где уровень нравственности решений определяется глобальным масштабом государственных интересов.
Публицистический цикл «Нравственные критерии анализа» охватывает как микроуровень отдельного человека, где лишь искусство является спобом сохранения человеческой уникальности и индивидуальности, — так и макроуровень, где уровень нравственности решений определяется глобальным масштабом государственных интересов.
Как можно сохранить объективность и органичность анализа на столь разных уровнях? Книга призвана доказать, что в основе рационального подхода к решению любых проблем (от микроуровня до макроуровня) должны лежать те нравственные ориентиры, которые уже обозначены в искусстве.
…Искусство – это не жизнь, но ее отражение. Именно оно останется тогда, когда никого из нас не останется. Перед ним все равны. Кстати, равны как нравственные, так и безнравственные. В основе такого искусственного отражения – останется запечатленным образ времени, в данном случае, «нашего безнравственного времени». И все, абсолютно все спохватываются об этом «пустячке» лишь тогда, когда бывает уже очень поздно что-нибудь изменить. В особенности, поздно сделать это на словах или другими методами искусства.
Кроме завершенного и значительно переработанного цикла «Нравственные критерии анализа», материалом для книги послужили статьи «Власть и закон«, «О римском праве… и нравственном законе внутри«, «О культуре», вызвавших большой общественный интерес.
В первой главе рассмотрены вопросы нравственности и морали – в отношении общества, где индивид должен хотя бы внешне следовать неким общепринятым «нравам». Отправной точкой создания этой книги послужил жесткий общественный стереотип: «если ты такой умный, то почему такой бедный?» Стереотип повсеместно навязывался обществу «в лихих 90-х» и до середины 2000-х годов — не только на уровне почти блатного жаргона в бытовом общении, но и в средствах массовой информации.
Первая глава книги раскрывала этот стереотип, доказывая, что только нравственные критерии анализа, принимаемые в априори, позволяют прийти к верным выводам.
Конечно, если ими не руководствоваться, то этой на первых порах увеличивает «степень свободы» в процессах «демократических преобразованиях всего общества». Но на наших глазах «лихие 90-е» завершились возникновением внешней благообразности прежних антисоциальных элементов, поскольку культурная среда, созданная обществом в течение длительного периода, оказалась намного сильнее этой «новой культуры поведения».
Можно отбросить нравственные критерии анализа и в ходе приватизации государственной собственности. Но сегодня уже всему обществу на базе прежних достижений искусства – понятна порочность создания в обществе – неподсудного, недостижимого для моральных общественных оценок «класса эффективных собственников», никто из которых не только не способен лично создать подобную собственность, но и владеть ею с той же отдачей для всего общества.
В основе подобных «преобразований» лежат не только правовые аспекты, защищавшие частную, государственную и общественную собственность именно из чувства самосохранения общества в целом. Но «преобразования», подающие прежние преступления, сурово каравшиеся государством – в качестве «демократических преобразований», проводятся в русле очередной идеологии, в очередной раз пытающейся заменить собою человеческую нравственность, попрать ее.
В логике этих общественных процессов возникает абсолютно аморальное давление на настоящее искусство, являющееся естественной площадкой свободы нравственного выбора. Власть перехватывает у искусства это «моральное право», заменяя его открытыми нравственными проповедями всему обществу – в интервью, речах, новых законах, принимаемых «из нравственных соображений», забывая, что именно такими «благими намерениями» и вымощена дорога в настоящий Ад.
В искусстве при этом наблюдаются достаточно негативные процессы:
- классика подается в «обличительном» контексте, вперемешку с течениями, названными Аполлоном Григорьевым «обличительной литературой», — как «обвинение всему обществу»;
- обществу «официальным признанием» навязывается литература и искусство, не имеющих художественной ценности, а потому неопасных из-за отсутствия нравственного выбора в ходе анализа действительности;
- давление псевдоискусства, спекулирующего на проблемах общества, подающих их с примитивным унизительным морализаторством в русле выгодной политической конъюнктуры.
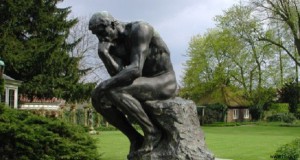 В результате длительное время в момент социального излома общество живет без художественных образов, исключенный из сотворчества эстетической триады «автор-образ-читатель». А человек при этом чувствует прямой наезд на саму душу, поскольку искусство – пища духовная.
В результате длительное время в момент социального излома общество живет без художественных образов, исключенный из сотворчества эстетической триады «автор-образ-читатель». А человек при этом чувствует прямой наезд на саму душу, поскольку искусство – пища духовная.
В условиях такого массированного и всестороннего давления у человека возникает естественное желание – защитить то единственное, что он может вынести с собой – собственную душу.
Он с большой осторожностью подходит к книгам, стараясь придерживаться лишь тех, которые ему уже известны, проверены им лично, он не доверяет рекламе, поскольку неоднократно убедился, как ничтожно она отражает действительную художественную ценность рекламируемых произведений.
У большинства читателей возникает страх в отношении «современной литературы», которая прорывается вслух нескрываемым опасением: «А я не получу плевок в душу?» Поэтому читателем выбираются детективы и «женские романы», поскольку здесь существует незримая договоренность с автором об условности принадлежности их «творения» к нстоящему искусству.
Но главное, он уже прошел длительный советский период «партийности в литературе», испытав давление «это надо читать!», «это надо смотреть!» — где испытал откровенное манипуляции его лучшими душевными качествами. И это подрывает изначальное доверие к книге в частности и к искусству вообще. Человек считает искусство для себя не столь важным в усложняющихся, накатывающих снежным комом реальных проблемах, не понимая, что подавляющая их часть именно потому ставит его в тупик, рождает неуверенность и чувство обреченности – поскольку не решается методами искусства.
В во второй главе книги рассмотрены «революционные преобразования», когда реализуется попытка решить нравственные проблемы – не методами искусства, а «революционным творчеством масс», за которым всегда стоят беспринципные и абсолютно безнравственные люди. Мы видим, что залечить раны общества, вернуть его к нормальной жизни – под силу лишь настоящему искусству. И любое отступление общества от искусства – несет в себе не только общую гуманитарную катастрофу, но и лишает личность элементарной защиты – от прямых ударов всей мощи государственной машины.
В то же время, сами вопросы нравственности и морали, поднимаемые вне ткани художественных образов – заранее вызывают желание защититься, уберечь свою душу от прямого морального наезда, лишающего человека свободы нравственного выбора, которой каждый из нас снабжен свыше. Поэтому при обсуждении первой части книги возникают характерные диалоги, выявляющие опасение читателя.
medlenic:
И вот почему мне кажется, что в нашей стране в текущей ее ситуации обсуждать вопросы нравственности и морали так же бессмысленно и бесполезно, как вести пропаганду этих тем в публичном доме. Даже если кто из акторов и согласится с Вами, все равно — это согласие будет чисто внешним, никто всерьез на СЕБЯ эти темы не натянет.
ogurcova:
Поэтому вам прямой резон сэкономить 6 баксов на своей морали. Она столько не стоит.
Человек считает, что речь пойдет исключительно в колее очередного навязывания «прописных истин», с непременным «обличением всего общества», не отдавая себе отчет, что общество можно обличить, лишь выйдя за рамки общепринятых моральных норм. То есть, заведомо предполагая нечто безнравственное в качестве истинной цели открытой морали.
Тем не менее, за годы причисления «обличительной литературы» — к искусству, после длительного периода отслеживания «идейного содержания» искусства в целом, к подобной теме возникает изначальное предубеждение, поскольку человек инстинктивно пытается защитить свою душу.
Поэтому многие читатели, не желая оказывать «негативного маркетингового воздействия», высказывали в личной переписке серьезные предварительные опасения.
N. Ирина Анатольевна, мое мнение- это мое мнение, но название искусство и нравственность — режет по ушам. Я думаю, не у меня одного иммунитет к дешевому морализаторству, которое прикрывается нравственностью. Но понятно, что потомкам термин морализаторство даже возможно, непонятен будет.
А пока — режет и не вдохновляет 🙁
Но написано — отлично, чувствую, что вы изменили в подходе что-то неуловимо, потом сформулирую, когда дочитаю…
Отметим, что сам этот разговор назревает в российском обществе очень давно. Из первой главы (и примечаниям об Аполлоне Григорьеве) видно, как тщательно обходятся эти вопросы, а самого автора статьи «Искусство и нравственность» обвиняют в приверженности к мистике и неумению однозначно изложить свои взгляды.
Хотя понятно, что именно этическая однозначность позиции Григорьева, его принципиальный отказ от работы в каких-то кружках и течениях, несовместимых с истинными задачами художника, вызывают и ответное желание не понимать сказанное… из-за неприятия им расхожих «нравственных оценок» тех, кто любит озвучит чужой нравственный выбор, не давая возможности людям сделать его самим.
Пожалуй, опасность (неудобность) личности Аполлона Григорьева для таких «общественных морализаторов» в том, что он выступает в защиту настоящего искусства, уже создав поэтические образы в своей лирике, которые становятся настолько популярными, что многие романсы на его стихи не приписываются его авторству, а представляются «слова _народные_». Поэтому такое количество исследований посвящено мысли, будто человек, способный создать «народные слова», не имел достаточного мировоззренческого уровня.
Как и Аполлон Григорьев, я тоже приступила к этой теме, столкнувшись с резким неприятием методов настоящего искусства, способного разрешить все проблемы легко, в комфортной для души читателя творческой атмосфере, не «ставя вопросы перед всем обществом», не «обличая все общество», не внушая человеку мысль о непреодолимости этих проблем, которые становятся не более дюйма, стоит лишь читателю со смехом, с чувством расправившей в полете фантазии свои крылья души – решить для себя, что ему в жизни важно для счастья, а что рождает скуку, неприятие, досаду.
Испытываемая при официальных речах скука — потому и является одним из смертных грехов (категорически в этом отличаясь от лени), что человек чувствует себя выключенным из жизни, лишним, ненужным. Он чувствует внутреннюю душевную скованность, невозможность по официальным давлением высказать свое отношение к правде и лжи, искренности и притворству. Нравственный выбор делает не он сам, а кто-то за него, причем, необязательно более умный или нравственный. Скорее напротив, поскольку нравственный выбор личности блокируется в момент навязывания ложных, заведомо безнравственных оценок, в условиях подмены общественных оценок.
У настоящего искусства – диаметрально противоположные методы, поскольку без сотворчества читателей/зрителей/слушателей художественные образы «не взлетят», не получат настоящей силы, чтобы впитать в себя неповторимый образ своего времени.
…Поэтому они купили ангарный склад за городом, разместили там огромный макет Васюкова. Сами понимаете, для чего. Васюков, как увидел крошечных дюймов, снующих по улицам, обживающих дома, весь загорелся, стал вокруг им все обустраивать. Мила с Беллой его наняли сторожить склад и ухаживать за дюймами. А это вообще оказалось мечтой всей его жизни!
Очень только печалит Васюкова, что дюймы упорно все на свой лад в его городке перестраивают. Первым делом изуродовали детский сад «Белочка», превратив его в какую-то штаб-квартиру… У них в этом городке все теперь есть! Даже светофоры работают!
Иногда Милка с Беллой приходят посмотреть на них тайком. Но сосредоточенная на себе деловитость дюймов их просто пугает. Ни Беллу, ни Милку, ни Васюкова они вообще не замечают. Живут только для себя. Милка как-то сказала, что, наверно, они вообще не догадываются, что давно изолировались от общества. А Васюков, которого дюймы расстраивают все больше, сказал, что они еще раньше изолированными были. На днях Думу свою организовали, выборы тут же подтасовали, все дружненько избрались, законы теперь пишут какие-то ужасные… Недавно решили всех пенсионеров в городе льгот лишить. При этом никаких пенсионеров-то они же в глаза не видят! Но как-то догадываются об их объективном существовании… Короче, как Милка с Беллой на них посмотрят, так такая тоска на них накатывает, что они втроем запирают склад и едут вместе с Васюковым на берег Карлутки раков ловить.
[И. Дедюхова «Последний дюйм»,2004 г. аудиосказка]
 Если бы общество имело возможность высказать свое отношение к происходящему в рамках обсуждения литературных образов (в данном случае, образов полностью игнорирующих общество дюймов), оно решило бы свои проблемы… обсуждая веселую сказку, как некоторые граждане становились объектами мистических ритуалов, просто потому, что отступали в своих действиях от известных каждому с детства основ нравственного выбора на уровне «хорошо/плохо».
Если бы общество имело возможность высказать свое отношение к происходящему в рамках обсуждения литературных образов (в данном случае, образов полностью игнорирующих общество дюймов), оно решило бы свои проблемы… обсуждая веселую сказку, как некоторые граждане становились объектами мистических ритуалов, просто потому, что отступали в своих действиях от известных каждому с детства основ нравственного выбора на уровне «хорошо/плохо».
При этом никаких открытых моралей им никто не читает, этого просто некому делать, ведь знакомство с главной героиней сказки начинается с «краткой характеристики»: «_Жили-были, значит, мать с дочкой. Вернее, дочка жила, а мать просто была_». А единственный «нравственный» вывод, который делает героиня сказки из происходящей фантасмагории, может вызвать лишь сочувствии к ее личной жизни: «_Раньше тоже всякие мужики Белле Юрьевне попадались. Было в них что-то мелкое, было. Но не до такой же степени!.._»
Но, если наложить момент создания этой сказки на нашу фантасмагорическую действительность, можно заметить, что она написана в предвосхищении закона о «монетизации льгот» и комплексного наступления на социальные завоевания общества в образовании и медицине. Искусство всегда прогнозирует возможные «расклады».
Сказка не дошла до своего читателя вовремя, но вместо нее было множество других произведений, в которых не возникло одного нарицательного художественного образа, но главное – эти произведения не решили проблем общества, не создав основы такого культурного решения.
Отсутствие образов настоящего искусства — позволяет обращаться к нему представителей власти с открытыми моралями, а депутатов — принимать целый пакет законодательных актов, «поднимающих моральный уровень общества», вступающих в противоречие с Основным законом страны. Депутаты сами пытаются использовать образность настоящего искусства, используя в своих моралях, к примеру, образ «_унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла_»24. И все общество испытывает унижение от подобного «цитирования», нисколько не заблуждаясь, что этот образ, оторванный от реальной действительности, используется, чтобы подчеркнуть маргинальность всех его слоев, абсолютную уверенность депутатов в своей изначальной правоте.
С другой стороны любое несогласие с подобными оценками вне рамок искусства – предлагается выражать в виде различных «общественных акций протеста» — вполне в духе «обличительной литературы» ХIХ века. Искусство здесь уже не воспринимается в качестве необходимого «защитного слоя» между властью и обществом, свое отношение к происходящему обычный человек может выразить лишь самим молчаливым присутствием на подобных «массовых мероприятиях», подвергаясь опасности стать участником намеренной провокации.
Вместе с тем, прошедшие митинги, сборы подписей за роспуск Государственной думы и многие другие спорные в культурном отношении события — не дали ни одного харизматичного лидера оппозиции, поскольку из массы в таких процессах, далеких от настоящего искусства, протекающих вне культурной среды общества – выдвигаются люди со спорными нравственными принципами. Как правило, эти люди не всегда готовы ответить за себя, за свой собственный образ, поэтому они доказывают, будто более других проникаются интересами общества, предлагая… антиобщественные методы.
Если бы в обществе своевременно возникла оценка действий депутатов в абстрактной сфере искусства – как неких дюймов, которые не замечают реальной жизни, которые намеренно изолируются от общества… это избавило бы от бессмысленных попыток стать в реальности — героями выдуманных историй. Общество давно должно было получить в искусстве не ущербную оценку «сталинских репрессий» на уровне конъюнктурной и поверхностной «Московской саги» Василия Аксенова, не давшей обществу ни одного нарицательного персонажа, вошедшего в изустное творчество, — а глубже поняв образы М. Шолохова и М. Булгакова.
Но это же избавило бы от спорной во многих отношениях выходки Владимира Познера, назвавшего на Первом телеканале Госдуму – «Госдурой». Каким образом эта эмоциональная оценка государственного органа законодательной власти может благотворно повлиять на его работу? Да, собственно, никак. Владимир Познер этим подчеркивает лишь собственное моральное превосходство, которое депутаты совершенно правильно связали с наличием у него тройного гражданства, то есть с нескрываемым ощущением безнаказанности, что изначально противоречит условиям нравственного выбора.
Но если встать на сторону Владимира Познера, то это означает допустить для себя, что подобные выражения допустимы и приемлемы – по частному вопросу, сфокусированном на весьма узком аспекте большой общественной проблемы, которая вытекает из того, что общество не имеет рычагов влияния на принятие депутатами законодательных решений.
Признание «правоты» Владимира Познера, выраженной подобным образом – это не только будет выглядеть передачей ему «исключительных прав» на создание подобных «образов» обсценной лексикой, но и признание морального права Государственной дума принимать в качестве актуальных законов период экономического кризиса и коррупционных скандалов на высшем уровне – законов о нецензурной лексике СМИ. И это не только уничтожает культурную среду, в которой создается и существует искусство, но и окончательно ставит все общество на уровень недееспособных маргиналов, не умеющих культурно выразить свои мысли.
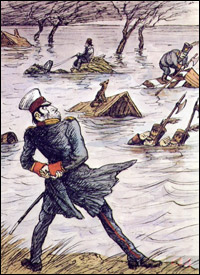 Во второй главе рассматриваются вопросы о нравственности власти, которая обычно рассматривается лишь в аспекте «власть и культура». При этом в априори принимаются лишь внешние признаки культуры, без нравственных оценок, а также учитывается уровень финансирование и государственная поддержка Министерства культуры, известных деятелей культуры и программ «культурного развития населения».
Во второй главе рассматриваются вопросы о нравственности власти, которая обычно рассматривается лишь в аспекте «власть и культура». При этом в априори принимаются лишь внешние признаки культуры, без нравственных оценок, а также учитывается уровень финансирование и государственная поддержка Министерства культуры, известных деятелей культуры и программ «культурного развития населения».
Нравственная оценка власти, заданная высокой планкой памфлета «Истории одного города» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина27, в том, насколько принимаемые решения соответствуют решениям насущных проблем общества и государства в целом, — а не лоббируют частные интересы определенных социальных групп и личные интересы тех, кто оказался волею случая вознесенным на вершину власти.
Содержание
Введение
Глава 1. Искусство и нравственность
Глава 2. О культуре
Глава 3. Власть и нравственность
Глава 4. Власть и закон
Глава 5. О римском праве и… нравственном законе внутри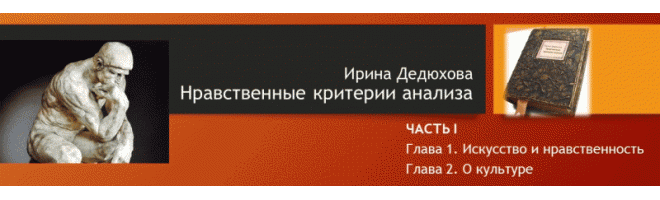
Книги Ирины Анатольевны Дедюховой в «Книжной лавке»:
- Ирина Дедюхова «Повелительница снов»
- Ирина Дедюхова «Безбрежные воды Стикса»
- Ирина Дедюхова «Время сказок»
- Ирина Дедюхова «На понтах»
- Ирина Дедюхова «Песнь Алконоста»
- Ирина Дедюхова «Начальный свод»
- Ирина Дедюхова «Трудно быть богом…»
- Ирина Дедюхова «Домострой»
- Ирина Дедюхова «Кодекс Хаммурапи»
- Ирина Дедюхова «Нафталин»
- Ирина Дедюхова «Кухаркины дети»
- И.А. Дедюхова «Псевдокультура и частная собственность»
- И.А. Дедюхова «СЗХ — стратегические зоны хозяйствования»
- Дедюхова И.А. Парнасские сестры
- Дедюхова И.А. Книга мертвых (I глава)
- Дедюхова И.А. Позови меня трижды…
- Дедюхова И.А. Армагеддон № 3
- Дедюхова И.А. Нравственные критерии анализа
- Дедюхова И.А. Техническое обследование жилых зданий
- Дедюхова И.А. Управление стратегиями в области жилищного строительства и реконструкции
- Дедюхова И.А. «Из истории жилищного строительства в СССР»
- Реконструкция жилья третьей группы капитальности