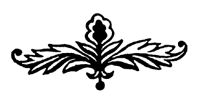Рильке, Райнер Мария (original) (raw)
XPOHOC
ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ
ФОРУМ ХРОНОСА
НОВОСТИ ХРОНОСА
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА
ЭТНОНИМЫ
РЕЛИГИИ МИРА
СТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
КАРТА САЙТА
АВТОРЫ ХРОНОСА
Родственные проекты:
РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ
ДОКУМЕНТЫ XX ВЕКА
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
ПРАВИТЕЛИ МИРА
ВОЙНА 1812 ГОДА
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
СЛАВЯНСТВО
ЭТНОЦИКЛОПЕДИЯ
АПСУАРА
РУССКОЕ ПОЛЕ
Райнер (Рене) Мария Рильке
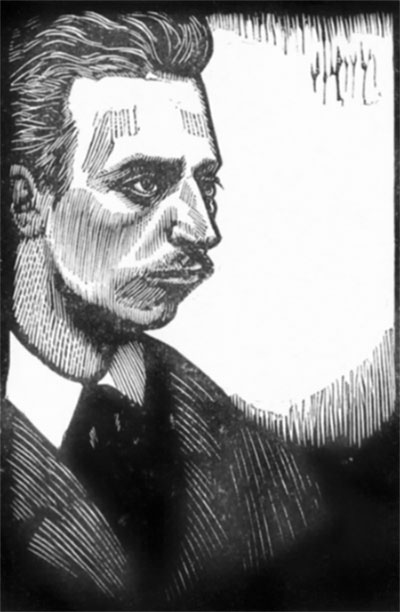
Р.М. Рильке. Художник А. Гончаров.
Австрийский поэт
Рильке Райнер Мария (1875-1926) — австрийский поэт. Родился в Праге, учился в военной школе. Ранняя лирика Рильке (сборник «Венчанный снами») наполнена мистицизмом, яркой образностью. В 1899-1900 годы посетил Россию — «духовную родину», работал над книгами «Часослов» и «Книга образов». В 1910 году публикует свой роман-дневник, далее — «Дуинезские элегии», «Сонеты к Орфею». Творчество Рильке несколько пафосно и очень трагично.
Гурьева Т.Н. Новый литературный словарь / Т.Н. Гурьева. – Ростов н/Д, Феникс, 2009, с. 247.


Одинокий гений
Рильке, Райнер (Рене) Мария (Rilke, Rainer (Ren) Maria) (1875–1926), австрийский поэт. Родился 4 декабря 1875 в Праге. Несчастливое детство и пять лет обучения в военной школе в Санкт-Пельтене наложили неизгладимый отпечаток на его чувствительную натуру и навсегда поселили в нем чувство одиночества.
Ранняя лирика Рильке типична для поэзии неоромантизма. Его сборник Венчанный снами (Traumgekrnt, 1897), наполненный неясными грезами с оттенком мистицизма, обнаружил яркую образность и незаурядное владение ритмом, размером, приемами аллитерации и мелодикой речи. Тщательное изучение наследия датского поэта Й.П.Якобсена (1847–1885) окрылило и преисполнило его строгим чувством ответственности. Две поездки в Россию, на его «духовную родину» (1899 и 1900), вылились в сборник Часослов (Das Stundenbuch, 1899–1903), в котором несмолкающей мелодией звучит молитва, обращенная к недогматически понятому Богу будущего. Прозаическим дополнением к Часослову стали Истории о добром Боге (Geschichten vom lieben Gott, 1900).
Свойственное Рильке стремление «жить среди толпы, но быть во времени бездомным» предопределило его отшельническую судьбу и бесприютность. Рильке обзавелся фамильным гербом, наивно уверовав в свою принадлежность к древнему рыцарскому роду, – это заблуждение увековечила его импрессионистическая поэма в прозе Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке (Die Weise von Liebe und Tod des Kornets Christoph Rilke, 1906).
С 1900 по 1902 Рильке жил неподалеку от колонии художников Ворпсведе, в 1901 женился на Кларе Вестхоф. Стесненность в средствах и художественные искания привели его в Париж, где он имел возможность общаться со скульптором О.Роденом. Французская импрессионистическая живопись и символическая поэзия также отразились на поэзии Рильке, которая приобрела пластичность, широту диапазона и сосредоточенность на передаче неизменной сущности вещей (Новые стихотворения – Neue Gedichte, 1903–1908). Самое крупное прозаическое произведение Рильке, разноплановый декадентский роман Записки Мальте Лауридса Бригге (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, 1911), обнаруживает многообразное влияние Парижа на восприимчивый эстетизм Рильке.
Первая мировая война заставила его на время покинуть Францию. В 1922 долго сдерживаемое творческое напряжение разрядилось в трудных для восприятия, зачастую темных Дуинезских элегиях (Duineser Elegies, 1912–1923) и вдохновенных Сонетах к Орфею (Die Sonette an Orpheus, 1923). Развивая глубоко оригинальную символическую космологию, Рильке поднимается к новым метафизическим высотам, ищет примирения диссонансов и противоречий, мучивших его всю жизнь. В пафосе утверждения видимого, «милой земли», рождается формула «преображения» как передачи внутренней реальности вещей.
Гений Рильке одинок. Его восприятие жизни, само его творчество, глубоко затронутое мыслью о смерти, были трагичными. Слово немецкого языка приобрело под его пером исключительную значимость, а его письма представляют собой поразительное свидетельство абсолютной преданности поэзии. Умер Рильке в Валь-Мон (Швейцария) 29 декабря 1926.
Использованы материалы энциклопедии "Мир вокруг нас"

Рудницкий М.
Райнер Мария Рильке (1875 - 1926)
Уже отошли в прошлое споры о том, считать или посчитать Рильке великим поэтом. Единственно весомым аргументом в этих спорах оказались в конечном счете стихи: лирика Рильке признана ныне одной из вершин поэзии XX века, и это утверждение звучит теперь простой констатацией факта. Зато другие споры — о сущности искусства Рильке, о направлении и смысле его идейных и художнических исканий, — судя по всему, еще долго не прекратятся.
Буржуазное литературоведение десятилетиями создавало легенду о Рильке, старательно выписывая лик отрешенного от жизни поэта-созерцателя. В его творчестве видели пример ревностного служения — но не человечеству, а только музе, в его стихах улавливали лишь гордые воспарения к вышним сферам духа и гармонии, не замечая главного в них: возражения предпринимательскому духу времени, резкой неприязни к миру буржуазных отношений.
Впрочем, на первый взгляд, такой откровенно стилизованный портрет даже достоверен. Внешне жизнь поэта действительно отмечена некоторой отрешенностью от века.
Австрийский поэт Райнер Мария Рильке родился и 1875 году в Праге, в буржуазной семье. Родина его — Чехия — называлась тогда Богемией и входила
[05]
в состав Австро-Венгерской империи. Он рано, еще мальчиком, начал писать стихи и с юных лет полностью посвятил себя литературному труду, опубликовав при жизни больше десятка стихотворных сборников, роман, несколько интересных работ об изобразительном искусстве и немало превосходных поэтических переводов. Частые путешествия тоже придают его биографии видимость благополучия. Рильке объездил почти всю Европу, побывал в Италии и Испании, Дании и Швеции, Бельгии, России и других странах, подолгу жил во Франции, Германии и Швейцарии. Он не познал горечь непонимания современников, не подвергался гонениям критики; известность, а потом и слава пришли к Рильке без особого опоздания.
Поэт жил в суровую и трудную, полную острейших социальных коллизий эпоху первой мировой войны и грозных революционных взрывов, — а кажется, будто эпоха эта милостиво обошла его стороной, ни разу не задела и не ушибла.
При первом прочтении можно подумать, что эпоха обошла стороной и его поэзию, — столь редки и невнятны в стихах Рильке отзвуки злобы дня, столь трудноразличимы в них приметы конкретных исторических событий, столь отрешенно замкнута его лирика в сфере индивидуального опыта, столь глубоко поглощена размышлениями и переживаниями, вроде бы сугубо приватными. Но связь поэзии с эпохой определяется не количеством упомянутых в стихе дат, имен и фактов. Впрочем, одно из стихотворений Рильке совершенно недвусмысленно отнесено к конкретной дате — к 1900 году — и начинается такими словами;
Проходит век. Живу ему под стать,
И слышен ветер в книге бытия… 1
_____
1. Перевод В. Микушевича.
[06]
Ветер истории был слышен и в его поэзии. Нужно сказать больше: человек и история столкнулись в его поэзии непреложно и жестко, лицом к лицу; ощущение времени, — острое, подчас болезненное, —вторглось в его душу и стих неумолимо, выгравировав строки пронзительной искренности и открытого трагизма. Внешнее благополучие биографии ни о чем не говорит, оно только видимость. Внутренняя жизнь поэта была трудной, мучительной.
Трудными были уже детство и юность.
Одиннадцати лет родители определили будущего поэта в военное училище, где впечатлительный и ранимый подросток томился, как в тюрьме, и откуда был затем отчислен по неуспеваемости и слабому здоровью. Три семестра не особенно успешных занятий в университетах Праги и Мюнхена не смягчили, а скорее усугубили душевную надломленность. В тех немногих юношеских стихах, где он сумел остаться самим собой, никому не подражая и ни с кем не соперничая, слышны боль, одиночество, неприкаянность.
О своих первых опытах, — кстати, весьма много-численных, — к двадцати пяти годам он (не считая журнальных публикаций) успел издать пять (!) сборников стихов, одну драму и две книги новелл, — Рильке позже будет вспоминать неохотно и почти с испугом, особенно о стихах. В них действительно многое откровенно слабо и подражательно. Однако сквозь изобилие неумелых, а порой даже и безвкусных строчек уже тогда прорывались провозвестья большой поэзии, стихи редкой чистоты и подлинности. Это, как правило, короткие импрессионистические зарисовки, вспыхивающие неожиданной сменой образов, расплывчатой
[07]
игрой света и тени, окрашенные неподдельно грустной душевной настроенностью.
Манера сама по себе не была новой,— с легкой руки Гуго фон Гофмансталя, вундеркинда и кумира «конца века», эта «поэзия настроения» стала модой, — но звучала она у раннего Рильке необычно. Гофмансталем тогда все зачитывались, его стихи, легкие, чуть ироничные, пленявшие капризностью эмоций и виртуозной звукописью, — что и говорить, были событием. Своеобразный парадокс этой иногда даже шаловливой лирики состоял в том, что за ее уверенным артистизмом ощущалась скептическая беззаботность и необязательность чувства. Стих останавливал мгновенье как бы шутя, фиксировал мимолетность любви, мимолетность весны, мимолетность жизни, — не задумываясь, со слегка наигранной и горькой беспечностью.
Иначе у Рильке. В лучших его ранних стихах — атмосфера новорожденности, перво-открытия, очень болезненного, трудного и чуткого вживания в мир, еще не познанный, во многом загадочный, а во многом и враждебный. Стихия иронии была чужда его поэзии, он никогда по умел встать над действительностью — так, чтобы посмеяться над пей, а заодно и над собой. Он с ранних строк искал в жизни целостности и осмысленности, — очевидно, это свойство его лирики и имел в видуБорис Пастернак, признаваясь, что Рильке поразил его «настоятельностью сказанного, безусловностью, нешуточностью, прямым назначением речи». Эта серьезность, сосредоточенность позволяла ему с юношеской восприимчивостью подмечать в жизни то, что очевидно лишено сообразности и смысла. В его робких, подчас даже инфантильных стихах обнажена тоска человека, который среди обыденной черствости
[08]
мира и беззащитен и одинок. Воплощением непонятной, но вопиющей несправедливости жизни чаще всего оказывается зловеще-унылый, почти мертвенный город, где природа пугливо «прячется за доски», где «трупы листьев обмывает дождь». Свободу дыхания стих молодого Рильке обретал лишь вдали от городского неуюта, в тихом покое неброского пригородного ландшафта с ого садами, ручьями, лугами и перелесками.
Ощущение глубокого духовного неблагополучия человеческого существования в буржуазном мире в ранней лирике Рильке уже было намечено, хотя и пунктиром. Оно, это чувство, заставляло искать некую точку духовной опоры, и поэта тянуло к естественной людской общности, к жизни простых людей, к безыскусной подлинности народной песни. Однако родной язык Рильке — немецкий — был в Праге языком театров и салонов, приемных и канцелярий, но отнюдь не языком улиц и площадей, окраин и пригородов. Его стих робко, с запинками выговаривал чешские имена и названия, которые — увы — звучали в немецкой строке все же искусственно. В письмах тех лет он все чаще говорит о себе как о «человеке без родины».
Родиной своей он потом назовет Россию, и это признание, неоднократно им повторенное, было не просто поэтической условностью, вежливой формулой благодарности за пережитые «туристические» впечатления. «То, что Россия — моя родина, принадлежит к том огромным и таинственным убеждениям, которыми я живу», — писал Рильке.
Подробности его поездок сейчас хорошо известны. Рильке посетил Россию дважды, весной 1899 и летом 1900 годов, побывал в Москве и Петербурге, совершил
[09]
путешествие по Украине и по Волге, был в Ясной Поляне у Толстого, встречался с художниками Ильей Репиным и Леонидом Пастернаком. Он восхищался древним русским зодчеством, живописью (особенно любил Левитана и Крамского), изучал русский язык и даже пробовал слагать стихи по-русски, читал русских поэтов и прозаиков (Тютчева, Фета, Толстого, Достоевского, Чехова), перевел на немецкий язык «Слово о полку Игореве» и — с удивительной силой — знаменитые «Строфы» Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...». Россия, какой оп ее увидел, стала для Рильке «основой переживания и восприятия» и сопутствовала ему всю жизнь, воспоминаниями, ассоциациями, образами, а то и целыми стихами и строфами врываясь в его произведения. Он и много лет спустя после русских путешествий живо интересовался событиями в России, искал встреч с русскими людьми, посещал на Капри Горького, переписывался с Борисом Пастернаком, а незадолго до смерти познакомился с Мариной Цветаевой, которой посвятил прекрасную элегию.
Объяснить восторженное преклонение Рильке перед Россией непросто, тут приходят на помощь строки его писем: «Быть на Волге, па этом спокойно катящемся море, быть дни и ночи, много дней и много ночей... Все измеряется другой мерой. Сразу понимаешь: земля — необъятна, вода — тоже нечто необъятное и необъятно прежде всего небо. Все, что мне доводилось видеть прежде, было лишь изображением земли, воды, мира. А тут это само по себе».
Правда, в его восхищении «русским миром» и «русским человеком» многое может показаться поверхностным и наивным. Он увидел Россию православную, Россию терпеливую и смиренную, Россию паломников и богомольцев; его манила пресловутая загадочность
[10]
«русской души». Другой России — страдающей и возмущенной, России, где готовились, по слову Блока, «неслыханные перемены, невиданные мятежи», он заметить не смог или убоялся. Страна Толстого и Достоевского была воспринята им, европейцем и горожанином, вдохновенно-односторонне: как антипод иссушающему рационализму западной цивилизации, ее унизительному «здравому смыслу», суетной озабоченности ее прогресса. В бескрайних русских далях, навсегда поразивших его воображение, в величавом спокойствии русской природы он впервые ощутил глубинные, непреходящие силы бытия, открыл, как ему казалось, осмысленность и сообразность черт в «лице жизни». Об этом открытии он и поведал в первой зрелой своей книге — сборнике «Часослов» (1905).
Россия присутствует в «Часослове» не просто как фон, и дело совсем не в том, что в некоторых стихах звучат русские слова, без труда узнаются русские пейзажи, да и книга в целом стилизована под сборник молитв русского монаха-паломника. В нервном, пульсирующем, нетерпеливом стихе, где каждая строка — порыв и экспрессия, русские реалии высвечены символикой своеобразного поэтического богоискательства. Символом «бога» означена целостность мира, необъятность природы, бесконечность человеческой души, способной испытать ощущение великой сопряженности и тайного родства всех предметов и явлений. Вместе с «Часословом» в поэзию Рильке входят интонации подлинно философской лирики. Поэт уже не бежит, как это было в ранних его стихах, от общества, от города в природу, — он уходит сознательно, уходит, оглянувшись, он природу обожествляет, в ней открывает истину. Природа становится для него не просто ландшафтом, картинкой, негативом души, — она пред-
[11]
ставляет самостоятельную, целостную силу, все размывающую и во все проникающую стихию бытия.
Но уже в «Часослове» общение с природой, с первоосновами жизни, с «богом» — затруднено. Чувство слиянности с миром обретается редко и лишь ценой огромного душевного напряжения. Поэт болезненно ощущает, что естественность человеческого взгляда на мир давно утрачена, что суета мелочных н своекорыстных «практических» интересов, дух делячества и буржуазности, присущий современности, мешают вслушаться, вчувствоваться, вжиться в бытие. В «Книге картин» (1906), лучшие стихотворения которой написаны в одно время с «Часословом» (в 1899—1903 гг.), об этой предприимчивой энергии буржуазной повседневности сказано с презрительной жалостью:
Как мелки с жизнью наши споры,
как крупно то, что против нас!
Когда б мы поддались напору
стихии, ищущей простора,
мы выросли бы во сто раз 1.
Мир буржуазных отношений и самое буржуазное общество все чаще и все резче воспринимались его поэзией как псевдо-реальность, как полу-призрачный мир дисгармонии, и он, не разделяя либеральных самообольщений, видел в мнимых победах цивилизации прямую угрозу идеалам гуманизма: «Все, что мы побеждаем, — малость, нас унижает наш успех».
В некоторых, ставших уже хрестоматийными стихотворениях «Книги картин» («Созерцание», «За книгой», «О фонтанах») единственно достойной формой человеческой деятельности объявлен акт созерцания, в котором постигается иная, высшая реальность,— реальность гармонии. Недоступное современникам чувство
____
1. Перевод Б. Пастернака.
[12]
общности и единства поэт хотел бы вернуть им снова, мечтая о том, «как будет близко все, как станет рядом, сродни и впору сердцу моему». Каждой строкой он стремился напомнить людям, что они живут не в замкнутых мирках, а в бесконечной вселенной; он возвращал их память к той — утраченной вместе с детством — свежести взгляда, которая позволяет увидеть мир как целое, когда «деревья складками коры мне говорят об ураганах», когда плеск фонтана заставляет вспомнить слезы юности, а спокойствие водной глади отражает бездонность ночного неба и неизведанность далеких звездных миров.
После «Книги картин» его все чаще называли «поэтом созерцания», и это верно, но с существенной оговоркой: созерцательность поэзии Рильке — не пассивна, в ней не обреченность и не слепая покорность судьбе, в ней — напряженные философские раздумья, поиски идеала, то есть истинного, безошибочного взгляда на вещи.
Рильке можно назвать и «поэтом одиночества» — того безысходного, «всегдашнего» человеческого одиночества, которое и боль, и мука, и в то же время почти привычное состояние его лирики. Горечь одиночества то вкраплена в его стихи каплями элегической грусти, то моросит бесконечным верленовским дождем, то рвется неудержимым потоком самоубийственной, на грани отчаяния, тоски. Разобщенность людей, чуждость, взаимонепроницаемость их внутренних миров — вот что тяготило и ранило поэта. Его стих с первых строк искал и просил контакта с человечеством.
Чувство незащищенности человека в капиталистическом городе в ранних стихах Рильке отмечено робостью и каким-то детским подоумениом. В последней же части «Часослова», во многих стихах «Книги
[13]
картин» («Одиночество», цикл «Голоса») и «Новых стихотворений» («Узник», «Безумные») оно постепенно перерастает в суровый и гневный протест. Начиная со стихов «о бедности и смерти» в «Часослове» урбанические образы Рильке становятся почти сплошь трагичными. Не сразу догадываешься, что за всеми этими кошмарными видениями худосочного подвального быта, больничных приемных, жутковато-пустынных улиц и площадей, за всеми этими картинами людской нищеты, болезни, умирания, отверженности — стоит Париж, где Рильке прожил без малого десять лет. Он приехал в Париж осенью 1902 года и с первых дней почти возненавидел этот город, показавшийся ему «галерой», навалившийся на него всей нестерпимостью контрастов богатства и бедности, красоты и гниения, то и дело вызывавший в памяти строки из бодлеровской «Падали». В его собственных стихах и в романе «Записки Мальте Лауридс Бригге», книге во многом автобиографической, этот Париж напоминает Петербург Достоевского и Блока, «город-спрут» Верхарна и тот изломанный отчаянием, теснящий, убивающий человека город, каким его несколько лет спустя увидят поэты и художники экспрессионизма. Позже он полюбит Париж, но у того чувства будут другие корни: это будет любовь к искусству Парижа, к Лувру, к Родену, к импрессионистам.
О «Часослове» и «Книге картин» написано уже не одно литературоведческое исследование, авторы которых совершенно справедливо утверждали, что в этих книгах сочетаются элементы разных поэтических стилей: французского символизма, «венского» импрессионизма, «неоромантики», — и на этом основании почтительно зачисляли Рильке в разряд поэтов «возвышенных» и «отрешенных», видели в его искусстве «незем-
[14]
ную» устремленность к «иным мирам». На самом деле стилистическое разнообразие было свидетельством интенсивных внутренних борений, напряженных творческих поисков, ибо в поэзии Рильке исподволь вызревал и мучительно стремился себя выразить тот трагизм, которым пронизано все подлинно большое искусство начала нашего столетия,— трагизм мироощущения художника, с неумолимой ясностью осознающего, что нет больше сил жить в мире, где несправедливость и обездоленность стали нормой и прозой, где естественность человеческих связей невозвратимо утрачена. Герой романа «Записки Мальте Лауриде Бригге», молодой художник, погибал от этой повседневной и бессмысленной жестокости бытия. Сам же поэт должен был выжить и — больше того — найти в себе, в своем искусстве опору и смысл существования, обрести в стихах те духовные ценности, которые могли бы противостоять бездуховности общественных отношений.
В 1908 году Рильке напишет реквием памяти художницы Паулы Модерзон-Беккер — женщины, которую он любил долгой и несчастной, безответной любовью. Однако эта личная, своя боль будет звучать в реквиеме подспудно, как бы против воли поэта. Не утрату любимой захочет он оплакать, а горький удел художника, которому уготовано вечное противоборство с жизнью.
Есть между жизнью и большой работой
старинная какая-то вражда 1.
Скорбная констатация разлада между идеалами поэзии и безыдеальной прозой современности для Риль-
___
1. Перевод В. Пастернака.
[15]
ке но внове,— можно сказать, что вся его поэзия ранена этим разладом. Но видеть в искусство «работу» он научился не сразу. В «Часослове» и «Книге картин» истина искусства не добывается, но — открывается чудом, постигается в молитвенном созерцании, даруется «высшим началом». О каждодневном подвижническом труде художника Рильке впервые заговорил в своей книге о Родене (1903).
С Роденом его связывало многолетнее знакомство; поэт одно время даже работал секретарем у великого скульптора. Именно Родену он обязан своей поздней любовью к Парижу, именно его искусство стало для Рильке «истоком воплощающих сил». В своей книге Рильке запечатлел в образе Родена, по сути, идеал художника — неутомимого искателя, умеющего и ждать в терпеливом созерцании, и страстно, до самоистязания работать, глубоко чувствовать и вдохновенно воплощать, властно брать от жизни и щедро ее раздаривать. Однако этот Роден, ежедневно и ежечасно творящий сильными руками неопровержимую реальность искусства, в глазах Рильке почти столь же велик и Недосягаем, как «бог» в «Часослове». Экспрессия и трагическая мощь Родена были ему и близки, и трудны, и родственны, и непосильны.
Пять лет спустя Рильке пишет о Сезанне,— не книгу, а просто письма родным и близким, торопясь поделиться с ними непомерностью открытия (книга из этих писем составилась уже посмертно,— без его участия и как бы сама собой). Часами простаивает он в том зале парижского Осеннего салона 1907 года, где, как феникс из пепла, рождалась слава умершего в безвестности и нужде живописца. О Сезанне Рильке пишет не менее проникновенно и трепетно, чем о Родене, по — иначе. Великий художник для него уже не бог, а просто
[16]
несчастный человек, обреченный нести сквозь дни и годы крест своего гения, обыкновенный смертный, только себе не принадлежащий, навсегда отданный, как проклятью, своему труду, «цепной пес своей работы, которая снова и снова его кличет, и бьет его, и морит голодом».
Рильке скромничал, когда признавался, что, глядя па полотна Сезанна, «становится тружеником». На самом деле он, если даже и пе осознавал «пожизненность задачи», давно был «цепным псом своей работы». Когда же не получались стихи, он без устали писал и писал письма, — раздаривал себя в письмах, лишь бы освободиться от мучивших его картин и образов, лишь бы утолить неуемную жажду работы.
Биографы потом по-разному будут толковать охоту к перемене мест, которая заставила его исчертить карту Европы ломаным, нервным маршрутом. Почти каждый год он наново решал для себя «проблему очередной зимовки», прибегая к гостеприимству близких и не очень близких друзей. Скитальческая жизнь была ему в тягость, но в этих внезапных переездах с места на место, в импульсивных разрывах с устоявшимся бытом, со сложившимся кругом симпатий и знакомств крылась все та же подчиненность своему труду, властно требовавшему новизны впечатлений. Он стал рабом своей «большой работы», которая заставляла его менять города, квартиры и страны, пренебрегая душевными и материальными удобствами.
Стихи, созданные в парижские годы, сильно отличались от всего, написанного Рильке прежде,— он не случайно назвал их «Новыми стихотворениями» (1907— 1908). Предощущение близости роковых исторических сдвигов не исчезло и в «Новых стихотворениях», — напротив, они ясно дают почувствовать, что привычный
[17]
и столь тягостный жизненный уклад колеблется, что по всем его основам пошли трещины. Этому зыбкому, кризисному, ненадежному миру в «Новых стихотворениях» противопоставлена страстная убежденность художника в том, что он творит не просто красоту, но самую действительность, что дело его рук, умения и таланта становится по завершении непреложным фактом бытия, зримым и осязаемым.
Стих Рильке, прежде откровенный и доверчивый, слишком восприимчивый и нервный, слишком легко поддававшийся перепадам настроений и низвергавшийся с ясных высот абсолютной мелодичности в мрачные бездны кричащих диссонансов,— становится теперь внешне спокойным, строгим, сдержанным; он насыщен интенсивным и уверенным звучанием, налит почти осязаемой, телесной полновесностью монументальных и пластичных образов, в которых без труда угадывается и сдержанная сила Родена, и выстраданная вещественность Сезанна. Поэзия здесь дерзко соперничает с трудом ваятеля, живописца и даже зодчего, заново, в слове, воссоздавая и громаду знаменитого Шартрского собора, и шедевры античной скульптуры, и общеизвестные сюжеты древней мифологии. Впрочем, объект изображения не так уж важен,— им может быть и ситуация ветхозаветного или евангельского предания (Рильке часто обращался к религиозным сюжетам, но всегда воссоздавал их без малейшей экзальтации, вкладывая в них не религиозное, по философское, общечеловеческое содержание), и душевное состояние человека, и пейзаж, и даже, наконец, зверь, цветок или обыкновенный предмет обихода (детский мяч, например), — само стихотворение врезается в восприятие твердым контуром, предметностью, осязаемой тяжестью вещи, которую, кажется, можно положить на ладонь
[18]
и долго рассматривать, вникая в новизну ее свойств. Именно этот процесс узнавания и важен в «Новых стихотворениях». Объекты изображения ценны для Рильке не сами по себе, а как факты всеобщего человеческого опыта: библейская притча прошла через миллионы уст, каменный узор Шартрского собора храпит следы вдохновенного труда безвестных строителей, (.вмыо обыденные предметы обихода тысячекратно опробованы чьими-то руками, светятся отражением чьих-то взглядов, живут теплом чьих-то привычек. «Новые стихотворения» вошли в историю мировой поэзии как принципиально новый тип стиха (в литературоведении выработался даже специальный термин для их обозначения — «стихотворение-вещь»). Важно, однако, отметить, что это художественное завоевание Рильке возникло не в результате чисто экспериментальных, формотворческих исканий,— оно было рождено глубокой духовной потребностью.
В «Новых стихотворениях» выразилась тоска художника но целостности мироощущения, утраченной человеком XX столетия; и, словно оплакивая эту утрату, поэт создал гимн мощной, созидающей воле человеческого восприятия, способной вместить в душу человека, в его внутренний мир всю бесконечность вселенной. Вещь, не просвеченная взглядом, не претворенная мыслью, не проникнутая чувством, не воссозданная изображением, — для поэзии Рильке мертва, как бы но псе не существует.
Казалось, что «Новыми стихотворениями» возможности его поэзии были исчерпаны без остатка. Рильке, действительно, на долгие годы замолчал, лишь изредка публикуя стихи, воспринимавшиеся на фоне последней
[19]
книги как случайные и необязательные. В удушливой атмосфере предвоенных лет «старинная» вражда между жизнью и работой давала о себе знать все более зловещими симптомами. Поэт чувствовал, что ветер истории набирает разрушительную силу, и понимал, что твердые строки стиха будут ему хрупкой защитой. Время вторглось в его жизнь грозой первой мировой войны, — это и была та катастрофа западной цивилизации, в предощущении которой он с боязнью смотрел в будущее.
«Почти все годы войны я переживал — по чистой случайности — в Мюнхене. Я все время думал и не мог, но мог, не мог понять! Не понимать — вот мое единственное занятие в эти годы, и, смею Вас уверить, оно не из легких. ...Ведь чем я обязан России,— она сделала меня тем, что я есть, я же в душе — родом оттуда, она — родина всех моих инстинктов, весь мой внутренний исток — там! Чем я обязан Парижу — и никогда не перестану быть обязанным. А другим странам! Я не мог и не могу ничего взять обратно, пи на мгновенье не могу я встать на чью-либо сторону, не могу презирать или ненавидеть».
Позже, когда будут разобраны его архивы, станет ясно, сколь исступленно он работал даже в это, самое трудное для него, время. Его поэзия напряженно искала выхода к новым рубежам, осваивая непривычные прежде ритмы свободного немецкого стиха, ритмы Клопштока, Гете и Гельдерлина. В 1912 году в небольшом замке Дуино на средиземноморском побережье эти ритмы впервые заговорили в нем, неотвратимые, как накат волны, мощные, как выдох моря.
«Дуинские элегии» — самое сокровенное и вместе с тем самое сложное творение Рильке. Поэт отдал ему
[20]
десять лет жизни, завершив элегии лишь в 1922 году и Швейцарии. Все, что он в эти годы писал помимо злогий, было лишь подготовкой, подступом, внутренним сопровождением к ним. Между тем чтение «Дуинских элегий» — работа нелегкая, оно превращается подчас и мучительный процесс угадывания и расшифровки, причем даже самые напряженные усилия не всегда вознаграждают читателя.
В письмах тех лет Рильке признавался, что действительность виделась ему как «сплошное и всеобщее разрушение». В «Дуинских элегиях» поэзия всей необузданной — на грани смысла — мощью слова творит для себя свой мир и свой миф, своих богов и своих ангелов, служит молебен по утраченной вере в возможность гармонии наяву, познавая и тяжесть, и подлинность простых истин: жизнь неотделима от смерти, добро — от зла, радость — от страдания, и в этой напряженности полюсов — не ущербность бытия, а его полнота, непреложность.
Нам остается, быть может,
дерево там, над обрывом, которое мы ежедневно
видели бы; остается дорога вчерашнего дня
да прихотливая верность упрямой привычки,
которая к нам привязалась и бросить не хочет 1.
«Земное прекрасно!» — этот пронзительный, полный боли выкрик одной из самых трагичных его элегий — выкрик отчаянья, ибо Рильке знал, что «красоте земного» грозит разрушение, чувствовал, что вера в изначальную гармонию вещей, которой держалось его искусство, подорвана, сломлена, смята.
В Швейцарии, куда его вскоре после войны привела болезнь и где он медленно, мучительно умирал от
_____
1. Перевод В. Микушевича.
[21]
белокровия, все чаще и все дольше оставаясь в клиниках и санаториях, поэзия его все же нашла в себе силы для последнего, решающего взлета. Освободившись от непомерной тяжести «Дуинских элегий», переболев их образным и лексическим неистовством, стих Рильке обрел успокоенность, ясность мысли и фразы, точность в выборе выразительных и изобразительных средств. Чуткая звукопись ранних стихов и «Часослова», проникновенная непосредственность «Книги картин», мощная пластика «Новых стихотворений», философская глубина элегий,— все это в его поздней лирике слилось воедино, растворилось в экономной и изящной, негромкой и мудрой поэтической речи.
Он еще завершал элегии — и одновременно, параллельно, попутно с ними в несколько дней (!) написал «Сонеты к Орфею» (1922) — монументальный и вместе с тем какой-то воздушный, почти ажурный цикл. Главной темой «Сонетов к Орфею» стала тема искусства; лишь жертвенной, всегда погибающей и возрождающейся вновь силе искусства была доверена теперь сохранность гармонии, лишь творческой энергии человеческого духа в его вершинных порывах была она доступна.
Кажется, поэту уже не нужно было, как прежде, искать все новых и новых впечатлений; любое, даже беглое, случайное соприкосновение с миром, — взгляд в ночное небо с угаданными в нем очертаниями созвездий, замеченная на столе ваза с цветами или фруктами, издали долетевшее журчание ручья, все это как бы само собой переливалось в стихи, образуя бесхитростные сочетания смыслов, звуков, ритмов, претворяясь в поэзию. Многие из его поздних вещей написаны не с натуры, а на память, по старым, многолетней давности впечатлениям.
[22]
Он работал в последние годы не так уж часто (болезнь давала о себе знать все более затяжными приступами), но удивительно легко, почти без черновиков. Незадолго до смерти написал книгу стихов по-французски, — Марина Цветаева скажет: «Захотелось несовершенства». Стихи тех лет не требуют пи объяснений, пи комментариев, они просты — той пугающей, «неслыханной» простотой лирического высказывания, которая заставляет забывать, что поэтическая речь — все же условность.
«Земное прекрасно». В элегиях эта мысль многократно оспорена, опровергнута и доказана вновь, за ней — безверие и надежда, обретение и утрата. В поздней лирике эта мысль не нуждается ни в проверке, ни в доказательстве. Красота земного есть истина, выраженная поэтической строкой, доказанная самим ее звучанием, она живет в стихе так же естественно, как живет в нем «простота травы, листвы и выси непривычность».
Время постепенно отодвигает от нас даты жизни Райнера Марии Рильке. Наследие поэта убрано в спокойные переплеты с золотым тиснением, и эти шесть томов стихов и прозы и еще столько же томов писем своей аккуратной рядностью напоминают нам, что его стихи стали классикой. Той самой классикой, которая, как принято говорить, выдержала «проверку временем».
Время, конечно, самый надежный судья. Оно вернее всего испытывает искусство. Оно решительно,— через столетия,— доносит до нас шедевры, отбрасывая и неумолимо предавая забвению все случайное, мимолетное, несущественное. Но с той же неумолимостью оно отдаляет от пас личность художника, эпоху, в которую
[23]
он жил и стремился себя выразить, оставляя нам — как единственно непреложную ценность — реальность его искусства. Жизнь поэта со всеми ее тяготами и неустройствами, со всей пыткой самоотдачи, его судьба, его смерть и бессмертие, — все это явлено вам в стихах, по уже как итог, как свершение.
М. Рудницкий
[24]
Цитируется по изд.: Рильке Р.М. Лирика. М., 1976, с. 5-24.

Далее читайте:
Исторические лица Австрии (биографический справочник)
Литература:
Адмони В. Поэзия Райнера Марии Рильке. – Вопросы литературы, 1962, № 12.
Рудницкий М. Русские мотивы в «Книге часов» Рильке. – Вопросы литературы, 1968, № 7.
Рильке Р.М. Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева. Письма 1926 года. М., 1990.
Рильке Р.М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1994.
Рильке Р.М. Небесные грани. Избранное. М., 1996.
Рильке Р.М. Новые стихотворения. М., 1996.