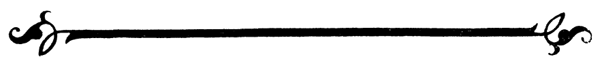Воронский Александр Константинович (original) (raw)
XPOHOC
ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ
ФОРУМ ХРОНОСА
НОВОСТИ ХРОНОСА
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА
ЭТНОНИМЫ
РЕЛИГИИ МИРА
СТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
КАРТА САЙТА
АВТОРЫ ХРОНОСА
Родственные проекты:
РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ
ДОКУМЕНТЫ XX ВЕКА
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
ПРАВИТЕЛИ МИРА
ВОЙНА 1812 ГОДА
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
СЛАВЯНСТВО
ЭТНОЦИКЛОПЕДИЯ
АПСУАРА
РУССКОЕ ПОЛЕ
Александр Константинович Воронский
Дементьев А.Г.
Воронский-критик
6
Различное отношение вызывают до сих пор статьи и выступления Воронского о Есенине. К сожалению, еще бытует в литературе версия, унаследованная от времени, когда о Воронском нельзя было сказать ни одного доброго слова. Впрочем, удивляться не приходится: представления о Воронском, как о злом гении советской литературы, привились настолько же крепко, насколько основательно забыты его книги.
Суть этой ставшей традиционной версии сводится к следующему: Воронский любил и ценил надрывные, болезненные мотивы поэзии Есенина, поднимал на щит и рекламировал стихи «Москвы кабацкой» и неприязненно, враждебно встретил стихи Есенина 1924-1925 годов: «Русь советская», «На родине», «Письмо к деду», «Персидские мотивы» и др., вообще поворот поэта к революционно-патриотическим темам. Он толкал Есенина на путь упадочничества, пытался, так сказать, пригвоздить его к трактирной стойке и препятствовал его стремлению выйти на главное направление советской литературы, культивировал есенинщину в поэзии
[34]
и отвергал попытки поэта писать гражданские, политические стихи 1.
Конечно, читатель статей Воронского сам увидит, что превозносил Воронский в Есенине и к чему относился отрицательно, но все же обратим его внимание на некоторые существенные суждения критика.
«Москва кабацкая», это жуткие, кошмарные, пьяные, кабацкие стихи. . . В истории русской поэзии впервые появляются стихи, в которых с· отменной изобразительностью, реализмом, художественной правдивостью и искренностью кабацкий угар возводится «В перл создания», в апофеоз . . . В стихах Есенина о кабацкой Москве размагниченность, духовная прострация, глубокая антиобщественность, бытовая и личная расшибленность, распад личности выступают совершенно отчетливо... Вопрос о Москве кабацкой - серьезный вопрос. Элементы общественного и литературного декаданса на фронте будней революции налицо. И в этом - опасность стихов Есенина».
Очевидно, что это мало похоже на восхваление мотивов над рыва и упадочничества в поэзии Есенина и рекламирование «Москвы кабацкой». Скорее наоборот. Именно так и поняли точку зрения Воронского многие современники. Очень горячо выступил против нее В. Киршон. В получившей широкую известность статье «Сергей Есенин» он утверждал, что Воронский не понял стихов «Москвы кабацкой». «Нет, не правы те, кто говорит, что «Москва
____
1. В последнее время наибольшую дань такой трактовке вопроса об отношении Воронского к Есенину отдал, пожалуй, В. Перцов. См. его статью «Маяковский и Есенин». «Вопросы литературы» 1961, № 3, стр. 64, 69-70, 72, 74. См. также книгу Е. Наумова «С. Есенин. Жизнь и творчество». Л., Учпедгиз, 1960, стр. 185. Кстати, пользуемся случаем, чтобы поправить ошибку, вкравшуюся в содержательную книгу Е. Наумова. На стр. 83 с сочувствием приводятся слова Д. Фурманова из его литературных записей о Есенине: «От «Инонии», где есть мечта о рае человеческом, отдает «дремотной» Азией, застоем». Но как и записи Фурманова о Бабеле и Замятине, так и значительная часть его конспективных заметок о Есенине сделаны на основе статей Воронского. В частности, приведенные выше слова об «Инонии» Есенина у Воронского звучат так: «Застоем, Китаем, дряхлым Востоком, сонной, «дремотной» Азией отдает от «Инонии» Есенина». Ом. стр. 257 настоящего сборника. Как и Е. Наумов, весьма высоко оценивает «заметки тезисы» Д. Фурманова о поэзии Есенина А. Дымшиц («очень верно определил», «замечательно тонко подметил» и т. п.), не подозревая, что похвалы относятся по преимуществу к Воронскому (А. Дымшиц. В великом походе. М., «Советский писатель», 1962, стр. 72, 82-83, 91; см. стр. 244-246 настоящего сборника).
[35]
кабацкая» возведена Сергеем Есениным «в перл создания», - писал Киршон. - Нет, неправда! Наоборот, только тяжесть, только боль, которая навеяна пьяным разгулом, надрывно выражена в этих строках . . . Нет, не причисляйте его к певцам кабака, он им никогда не был, никогда не возводил болезнь в апофеоз... В мотивах «Москвы кабацкой» все чаще и чаще, все настойчивей и властней начинает пробиваться тоска по деревне, тоска по земле... Своей больной кабацкой жизни он противопоставляет жизнь здорового человека...» 1
В сущности говоря, были правы обе стороны. Спор наглядно выявил болезненные противоречия цикла стихотворений «Москва кабацкая». В нем есть и упадочничество, опустошенность, отчаяние, есть и стремление преодолеть эти настроения, вырваться из плена неприкаянности и тоски, есть и поэтизация. пьяного разгула, есть и самоосуждение и порывы к цельности и здоровой жизни.
Теперь о том, как отнесся Веронский к повороту Есенина от «Москвы кабацкой» к революционно-патриотической лирике. Верно ли, что Воронский не поддержал этого поворота и толкал поэта совсем на другой путь? Верно, что Веронский считал очень плохим стихотворением «Стансы», очень отрицательно отнесся к тому, как сказано в нем о Марксе и Ленине, и утверждал, что писать о них Есенину еще рано. Разумеется, это было серьезной ошибкой Веронского. Но вот что пишет Баронский о стихотворениях «Письмо матери», «Памяти Ширяевца» («Мы теперь уходим понемногу»), «Годы молодые», «На родине», «Русь советская», «Персидские мотивы» и о повороте в творчестве Есенина:
«...В них есть эмоциональная напряженность и подъем, нет вялости, нет поэтических будней, что наиболее опасно для художника. Слово звучит, как туго натянутая струна, не громко, но высоко и чисто. В образ всегда вложено большое чувство».
«Стихи Есенина последнего периода несомненно свидетельствуют о повороте в его поэтическом творчестве. Трудно сказать, насколько серьезен, прочен и длителен этот поворот, но пока он налицо. «Москва кабацкая» осталась в этих стихах, как отдаленный замирающий отголосок».
«...Он по-прежнему грустит о прошедшей молодости, об увядании, о том, что жизнь идет и развивается по-своему, не считаясь с поэтом. Прибавилось только более конкретное ощущение, что революционная ломка, революционная борьба создали вместо старой Руси - Русь новую, советскую, так что даже родная, тихая
____
1. В. Киршон. Сергей Есенин. Л., «Прибой», 1926, стр. 20-23.
[36]
застойная деревня стала иной и не похожей на прежнюю. Поэт видит правду этой жизни, ее прорастание и цветение, он отступает пред ней с поклоном и приветом, оставляя для себя «лиру», дабы воспеть «Русь».
«Сдвиг в творчестве Есенина очень ощутителен. Есенин большой поэт. Его любят и ценят в Советской Руси. Большой художник не может долго стоять в стороне от больших дорог, по которым упрямо шагает история. То, что пишет теперь поэт, позволяет надеяться, что он выбрался из «Москвы кабацкой» на эту большую дорогу».
Не ясно ли, куда, на какую дорогу «толкал» Есенина Воронский и как он относился к тому, что поэт выбрался из «Москвы кабацкой» и обратился к новой жизни и революционной теме? Не ясно ли, что ставшую традиционной версию об отношении Воронского к поэзии Есенина надо сдать в архив?
Все это не означает, что напечатанная в этом сборнике статья Воронского о Есенине лишена каких-либо недостатков. Совсем нет.
Как и многие другие «портреты» Воронского, статья отличается тонкостью художественного анализа, ясностью представлений об основных этапах развития художника, глубоким пониманием драматизма его творчества. Статья противостоит любому стремлению упростить поэзию Есенина, затушевать ее противоречия, выпрямить путь поэта. Но она писалась в то время, когда последним словом Есенина были стихи «Москвы кабацкой». Новые стихотворения Есенина, такие, как «Русь советская», «На родине» и др., еще не появились, и главка, посвященная им, была написана Воронским и присоединена к статье (напечатанной в первом номере «Красной нови» за 1924 год) позднее. Это обстоятельство придало портрету Есенина особую окраску. На первый план в нем выступило желание критика найти «корни» противоречий Есенина и противодействовать влиянию «Москвы кабацкой». Естественно, что статья приобрела непомерно суровый и несколько односторонний характер.
Можно отметить несколько мест статьи, где Воронский явно несправедлив к Есенину. Прежде всего прямолинейно подошел критик к оценке дореволюционного периода в творчестве поэта. Преувеличив влияние «дедовской прививки» на поэзию Есенина, он неверно назвал стихи Есенина того времени «художественно реакционными». Характеризуя пореволюционную лирику, Воронский совсем напрасно увидел в ней позу, кокетство, нарочитую игру на дисгармонии и нecorлacoвaнности «своеобразный поэтиче-
[37]
ский авантюризм». Здесь стремление критика развенчать упадочничество Есенина зашло так далеко, что помешало ему почувствовать искренность и правдивость поэта. Чуткость явно изменила критику. Об известной неправоте и неполноте взгляда Воронского на «Москву кабацкую» верно писал Киршон.
Скоро Воронский и сам понял несправедливость ряда положений своей статьи о Есенине. Появились новые стихи Есенина, и представление критика о поэзии Есенина обогатилось и стало более широким. Как уже говорилось, после появления этих стихов Воронский дополнил свою статью новой главой. А затем последовала трагическая смерть поэта, что заставило Воронского снова задуматься о характере и судьбе поэта и кое в чем по-новому взглянуть на его творчество. На смерть поэта он откликнулся очерком «Об отошедшем». В нем он развивал прежние свои мысли о Есенине и вносил в них некоторые коррективы и дополнения.
Если прежде Воронский, оценивая дореволюционное творчество поэта, считал его реакционным и придавал здесь решающее значение «дедовской прививке», то теперь он связывает поэзию Есенина тех лет с художественным направлением таких писателей и поэтов, как Вольнов, Чапыгин, Касаткин, Пришвин, Клычков, Клюев, Орешин, пришедших в нашу литературу после революции 1905 года. «По-своему, по-особому, каждый на свой лад и образец, они отразили новые сдвиги в нашем крестьянстве и в нашей литературной общественности. Их подняла волна растущего крестьянского самосознания, самодеятельности, самостоятельности, требовательности и желания утвердить свои права и законы и, наконец, волна культурного подъема в крестьянстве. Они принесли с собой в литературу чистоту, цветистость, узорность и меткость народного языка и говора, материальность и выразительность образов, взятых из деревенского обихода, с поля, из перелесков, от большаков проселочных дорог» 1.
Если раньше Воронский усматривал в лирике Есенина позу и кокетство, то в очерке «Об отошедшем» он заявляет, что теперь стихи последнего периода звучат по-особому. «Раньше в них можно было усматривать следы сюжетного приема, художественную условность опытного мастера, вполне законную. Сейчас они потрясают как подлинный документ. . . За условностью, за приемом, за техникой и обработкой материала у больших художников должны рыть правдивость, большая сила и значительность чувств. Таким
___
1. А. Воронский. Литературные портреты, т. I. М., «Федерация», 1928, стр. 231-232.
[38]
художником был Есенин... Поэзия Есенина поражает своей обнаженной непосредственностью и напряжением. Он писал нутром, всем своим существом» 1.
Собственно, и Киршон был бы лишен возможности выступать столь резко против взгляда Воронского на «Москву кабацкую», если бы обратил внимание на то, что говорит Воронский об этом цикле стихов в статье «Советская литература и белая эмиграция (1925). Утверждая в споре с эмигрантом Степуном, что советские писатели вышли из революции и «волей-неволей зачерпнули из ее плебейского источника», Воронский ссылается на Есенина. «Есенин, - пишет Воронский, - плохой революционер. Его кабацкие и полукабацкие стихи - упадочны... Но даже в этих стихах есть такая эмоциональная насыщенность и напряженность, такая здоровая и жадная жажда жизни, такая прочная языческая тяга к земле, к полям, ко ржи, к березе, к черемухе, о каких эмигрантским мастерам слова и мечтать не приходится. Наша деревня для белой эмиграции является скопищем хамов, троглодитов, обманутых и опьяненных дикой ненавистью людей, а у Есенина - там до сих пор деды, матери, сестры, братья, друзья по детству. Там все свое, родное, близкое, кровное, понятное и дорогое».
Как видно, у Воронского не было намерения причислять Есенина к «певцам кабака». Известно, что в 1927 году против Есенина начался поход Бухарин в «Злых заметках» отождествил Есенина с есенинщиной и объявил поэта идеологом хулиганства. Воронский решительно возражал Бухарину. Он осуждал болезненные, ущербные мотивы поэзии Есенина, но выступал против сведения творчества Есенина к упадочничеству и поэтизации хулиганства.
Точка зрения Бухарина на Есенина неправильна, говорил Воронский в докладе о «Красной нови» в Отделе печати ЦК, «и хорошо Госиздат делает, что печатает этого большого и самобытного поэта... По отношению к Есенину нужно сказать, что его надо принять отселе и доселе, вместо того, чтобы отрицать огулом. Да и нехорошо выходит: сначала превозносили и давали возможность превозносить поэта, а потом объявили его идеологом хулиганства» 2.
Все эти штрихи и краски, нанесенные Воронским на портрет
____
1 А. Воронский. Литературные портреты, т. I. М., «Федерация», 1928, стр. 236, 237, 239.
2 А. Воронский. Мистер Бритлинг пьет чашу до дна. М., «Круг», 1927, стр. 223-224.
[39]
Есенина, «уточняют» его и придают ему большую глубину и убедительность. «А. К. Воронский едва ли не первый из советских критиков дал высокую оценку его дарования», - отметил Ю. Либединский в своих воспоминаниях о Есенине 1.
____
1. Ю. Либединский. Современники. М., «Советский писатель», 1958, стр. ·127.
[40]