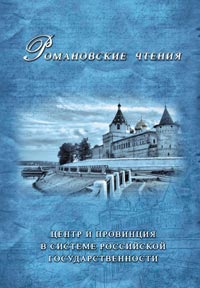II Романовские чтения (original) (raw)
XPOHOC
ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ
ФОРУМ ХРОНОСА
НОВОСТИ ХРОНОСА
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА
ЭТНОНИМЫ
РЕЛИГИИ МИРА
СТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
КАРТА САЙТА
АВТОРЫ ХРОНОСА
Родственные проекты:
РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ
ДОКУМЕНТЫ XX ВЕКА
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
ПРАВИТЕЛИ МИРА
ВОЙНА 1812 ГОДА
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
СЛАВЯНСТВО
ЭТНОЦИКЛОПЕДИЯ
АПСУАРА
РУССКОЕ ПОЛЕ
II Романовские чтения
О. А. Прядкина
Костромской политехнический колледж
Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви
в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления
(по материалам Костромского края)
В переломные моменты отечественной истории Русская православная церковь (РПЦ) выполняла важную роль хранительницы духовных ценностей и способствовала консолидации русского общества. Так было в годы борьбы с немецко-шведской агрессией XIII в., в сражении с полчищами Мамая на Куликовом поле, при освобождении страны от польских и шведских интервентов в Смутное время, в Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг. Патриотическая деятельность духовенства и верующих пробуждала чувство гражданской ответственности за судьбу Родины, являлась значимым фактором сохранения и укрепления российской государственности.
Война оказала потрясающее по силе воздействие на советское общество. В какой-то момент она смела все преграды и условности, разделявшие людей, обнажила их души и напомнила забытые пророчества Апокалипсиса. Война дала понять, что главная ценность – это человеческая жизнь. Книга Памяти (по Костромской области) свидетельствует, что более половины числа павших и пропавших без вести приходится именно на первый этап войны (1941–1942 гг.)1. Страх, переживания за судьбу близких усиливали религиозные настроения. “Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли…, – говорил Черчилль в своем выступлении по радио вечером 22 июня 1941 г. – Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся – да, ибо бывают времена, когда молятся все, – о безопасности своих близких…”2. Религиозные нотки проникали и в официальную советскую пропаганду. Так, в речи И.В. Сталина от 3 июля 1941 г., обратившегося к народу со словами: “Дорогие братья и сестры…”, – чувствовались теплота и призыв к всеобщему единению перед лицом опасности. В годы войны огромную популярность приобрели стихотворения К. Симонова. В одном из них были такие строки:
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Фронтовые корреспонденты: Симонов К., Зотов И., Кригер Е., Уткин И. – в прифронтовой полосе в дни обороны Москвы
Народ потянулся к храму в поисках надежды и утешения. В этой ситуации особую важность приобрел вопрос о позиции духовенства и верующих.
Война вызвала различную реакцию в советском обществе. Большинство населения восприняло ее как страшную беду и готово было встать на защиту Родины. Но были и такие, которые надеялись на осуществление своих давних планов свержения советской власти и введения свободы религиозной жизни. Эти люди проявляли повышенный интерес к церковной политике Гитлера. Они заявляли: “В нашей стране забыли Бога, а Гитлер воюет во имя истинного Бога”. С приходом немцев они связывали возвращение к дореволюционным порядкам и к старому образу жизни. Оживилась деятельность подпольных религиозных общин и священнослужителей, а также фанатически настроенных верующих, утверждавших, что советская власть безбожная, что церковь в Советском государстве не является истинно-православной. Борьба этой части населения, в которой переплетались религиозные и антисоветские мотивы, вызывала репрессии со стороны местных карательных органов советской власти3. Вместе с тем, руководство страны осознало значимость религии и церкви как духовного ресурса победы.
В первый же день войны было опубликовано послание патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского). В нем прослеживалась взаимосвязь православной веры и патриотических традиций русского народа. В своих многочисленных обращениях духовенство учило всецело отдавать себя служению Отечеству и вселяло уверенность в победе над врагом.
Важным направлением в деятельности церкви стал сбор средств на государственные и общественные нужды, связанные с войной. В Костроме в июле
1941 г. религиозная община Трудовой Слободы направила властям просьбу разрешить проведение молебна о даровании победы русскому воинству и крестного хода с целью увеличить поступления в фонд обороны страны4. 30 декабря 1942 г. митр. Сергий обратился к верующим с призывом жертвовать свои сбере жения на танковую колонну имени Дм. Донского. Общая сумма средств, собранных на ее строительство составила 8 млн. рублей5. В Костромской отдел Госбанка к апрелю 1943 г. на создание указанной колонны перечислено, по неполным данным, более 93 тыс. рублей6. Протоиерей Костромской епархии А.Н. Соболев в 1943 г. организовал среди верующих сбор средств и передал в фонд обороны 700 тыс. рублей, за что получил благодарность от И.В. Сталина. Настоятель Иоанно-Златоустовской церкви (1939–1944) А.Д. Флоренский, неоднократно вносивший личные сбережения в фонд государства (один из его взносов составил 100 тыс. рублей) и проводивший активную патриотическую работу среди верующих, был удостоен медали “За доблестный труд в Великой Отечественной войне”. На завершающем этапе войны материальные пожертвования РПЦ значительно возросли. За 1945 г. в храмах Костромской области на государственные нужды было собрано 1 млн. 400 тыс. рублей7. По личным заявлениям служителей культа только за 1 полугодие 1945 г. от них поступило свыше 774 тыс. рублей и облигациями около 159 тыс. рублей. Точную сумму материальных средств, внесенных верующими на патриотические цели, невозможно подсчитать ввиду того, что пожертвования производились не только в храмах (многие из них оставались закрытыми), но и через государственные организации, например, колхозы и отделения Госбанка. Силами костромичей построены авиационные эскадрильи “Ярославский комсомолец”, “Валерий Чкалов”, танковые колонны “Иван Сусанин”, “Юрий Смирнов”, “Народный учитель” и другие. В этом, безусловно, присутствовал и вклад верующих.
Важным проявлением патриотической деятельности духовенства и верующих стало участие в боевых действиях. В начале войны многие из них были призваны на службу в армию. В качестве заместителя командира роты начал боевой путь по фронтам войны будущий патриарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков). По окончании войны до 1946 г. он служил священником в Благовещенском Соборе г. Мурома, а впоследствии некоторое время возглавлял Костромскую епархию.
Диакон Костромского кафедрального Собора Борис Васильев по направлению поступил в офицерское училище и закончил его в звании лейтенанта. После этого сразу попал под Сталинград, где командовал взводом разведчиков. В дальнейшем о. Борис сражался в должности заместителя начальника полковой разведки.
Константин Ильичевский, пропоиерей Костромской епархии, также участвовал в боевых действиях. В первые годы войны он находился на оккупированной немцами территории, в Брестской области. С весны 1942г. исполнял там обязанности псаломщика. 1 августа 1944г. был призван в Красную Армию и оказался на передовой 1-го Белорусского фронта, где служил в качестве артиллерийского разведчика. «Началось великое горе на священной земле русской. Это горе коснулось и моей жизни, моей малой Родины, – так писал о войне К. Ильичевский в своем фронтовом дневнике. И меня хотели немцы увести в рабство, в Германию. Увезли многих моих товарищей и подруг. Самому мне несколько раз приходилось скрываться в лесу, в болотах. Все было подвергнуто разорению. От моего родительского дома остались только стены. И вот 1 августа оставил я седого отца-инвалида, мать-старушку, жену с ребенком, сестер, оставил их под открытым небом, лишенных всякой помощи, и влился, как капля в море, в эту гигантскую силу, гонящую немецких фашистов»8. В 1945 г. К. Ильичевский участвовал в Висло-Одерской операции. В марте 1945 г. он получил тяжелое ранение и после излечения был демобилизован.
В период Великой Отечественной войны РПЦ была признана важным фактором мобилизации духовных и материальных сил общества на борьбу с фашизмом. Это вызвало необходимость пересмотра прежнего курса государственно-церковных взаимоотношений. В пользу РПЦ были сделаны значительные уступки: дважды, в 1943 и 1945 гг., на Поместном Соборе состоялось избрание Патриарха Московского и всея Руси. Московская Патриархия получила возможность издавать собственный журнал. Были открыты некоторые духовные учебные заведения. Начали действовать закрытые прежде храмы. В Ярославской области, в которую до августа 1944 г. входила часть районов будущей Костромской области, открытие храмов приобретало стихийный характер. Местные власти пытались сдерживать этот процесс. В ряде случаев Председатель Верховного Совета СССР М.И. Калинин направлял телеграммы в исполкомы облсоветов с требованием передать церковные здания верующим. И все же открытие храмов в нашем регионе имело дозированный характер.
Своеобразным проявлением заботы со стороны государства стало внимательное отношение к памятникам старины. Уже в 1943 г. на заседании исполкома Костромского Горсовета депутатов трудящихся обсуждался вопрос о состоянии помещений Ипатьевского монастыря и церкви Воскресения на Дебре. В 1945 г. Комитетом по делам архитектуры при СНК СССР были выделены значительные средства на реставрацию храмов Ярославской и Владимирской областей.
Государство признало заслуги деятелей РПЦ. Митр. Николай и еще 19 представителей духовенства г. Москвы были награждены медалью “За оборону Москвы”. Митр. Алексий дважды был удостоен ордена Трудового Красного Знамени и вместе с другими священнослужителями получил медаль “За оборону Ленинграда”. Более 50 священнослужителей Московской Патриархии получили медаль “За доблестный труд в Великой Отечественной войне”. В их числе митр. Иоанн (Соколов), архиеп. Ярославский и Ростовский Алексий (Сергеев), архиеп. Димитрий (Градусов), епископ Ивановский и Шуйский Кирилл (Поспелов), епископ Костромской и Галичский Антоний (Кротевич), епископ Владимирский и Суздальский Онисим (Фестинатов). Изучение списков прихожан, членов церковных советов и ревизионных комиссий за военный и послевоенный периоды также показало, что среди них было немало людей, удостоенных медали “За доблестный труд в Великой Отечественной войне”.
В годы войны государство сделало значительные шаги навстречу церкви, но при этом не ослабило своего контроля над ней: все обращения и послания иерархов прочитывались в соответствующих органах власти; ЦК ВКП (б) давал санкцию на распространение того или иного церковного документа. Церкви по-прежнему была запрещена какая-либо социальная, педагогическая, производственная, медицинская деятельность. Совет по делам Русской православной церкви, ставший с 1943 г. главным механизмом реализации новой политики государства в отношении духовенства и верующих, также не должен был допускать укрепления и расширения церковью ее социальных позиций, поэтому им категорически отвергались любые предложения о создании общественных религиозных организаций.
23 марта 1944 г. в Совет по делам РПЦ обратился М.А. Островский, племянник русского драматурга А.Н. Островского. Он выступил с инициативой создания Союза Христианской Молодежи в СССР. По его мнению, данный Союз должен быть основан на принципах глубокой любви к Родине и вере. Объединяющей деятельностью должна была стать патриотическая по следующим направлениям:
а) сбор средств на строительство танков, самолетов, восстановление разрушенных немцами городов, организацию госпиталей;
б) благотворительность, шефство над сиротами, инвалидами, ранеными;
в) воспитание младшего поколения в духе патриотизма;
г) связь Союза с христианской молодежью союзных государств и русской христианской молодежью, находящейся за границей.
Ответ Г.Г. Карпова был категоричен: «Организацию Союза Христианской Молодежи считаю излишней. Церковь, будучи отделена от государства, не имела и не имеет каких-либо организаций внутри себя, и не может иметь каких-либо организаций наподобие данного Союза»9. Докладывая об этом визите в вышестоящие органы, Г.Г. Карпов отметил: «Островский производит впечатление физически здорового молодого человека, но в психическом отношении, видимо с отклонениями от нормы».
Неприятие советским руководством подобных предложений существенно ограничивало возможности РПЦ в оказании помощи населению. Представителям интеллигенции, выдвигавшим проекты создания религиозно-философских обществ, молодежных организаций и воскресных школ, дали понять, что по окончании войны не произойдет либерализации в идеологической сфере жизни общества.
Близость окончания войны в партийных кругах воспринималась как возможность нового “наступления” на религию. 27 сентября 1944 г. ЦК ВКП (б) принял постановление “Об организации научно-просветительной пропаганды”. Данный документ призывал усилить работу по распространению естественнонаучных знаний.
Однако, в 1945–1948 гг. еще сохранялись условия для сотрудничества государства с церковью. Этому содействовала международная деятельность РПЦ. Советское руководство намеревалось использовать акции духовенства в целях распространения своего влияния в Европе. Кроме того, служители культа и миряне принимали самое активное участие в послевоенном восстановлении народного хозяйства. Во всех православных храмах зачитывались обращения патриарха и произносились проповеди, направленные на поддержку мероприятий по выполнению производственных планов, госпоставок, уборки урожая, быстрейшей ликвидации последствий фашистского вторжения. В апреле 1947 г. епископ Костромской и Галичский Антоний напомнил настоятелям и прихожанам: “В данный момент с наступлением весны и связанных с нею полевых работ долг каждого истинного сына своей Родины приложить все усилия к успешному и своевременному проведению полевых работ весенней компании”10. В ознаменование 30-й годовщины Октябрьской революции епархиальное управление собрало с приходов Костромской области облигации госзаймов на сумму 350 тыс. рублей и внесло их в фонд государства11. В 1947–1949 гг. верующие оплатили облигации Государственного Займа восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1 млн. 132 тыс. рублей, а с 1950 г. по 1953 г. еще на 2 млн. 400 тыс. рублей. Материальный вклад РПЦ выражался не только в хозяйственной помощи государству, но и в сдаче дополнительных средств в фонд помощи детям-сиротам. Местные власти в некоторых случаях злоупотребляли полномочиями и требовали от верующих увеличения пожертвований.
В послевоенный период также имел место личный трудовой подвиг священнослужителей. Так, во время уборочной кампании 1947 г. священник погоста Успенье Ореховского района Костромской области собрал группу верующих и убрал зерновых культур с площади 12 гектар. Председатель колхоза обратился к архиерею с благодарностью: “Наша успешная уборочная в своих рядах имела до сих пор невиданную бригаду, а именно двадцатку храма погоста Успенье, во главе которой стоял бригадир священник Ф.И. Соколов Умелой четкой работой он воодушевлял своих прихожан”12.
Стремясь поддержать достигнутый в годы войны компромисс, церковь посредством проповеди пропагандировала достижения советского строя. Например, 7– 8 ноября 1949 г. в 32-ую годовщину Октябрьской революции, 5 декабря в день Сталинской Конституции, 21 декабря в день 70-летия И.В. Сталина – во всех храмах были отслужены молебны и проповеди.
По мнению исследователя О.Ю. Васильевой, в 1948 г. наблюдается угасание интереса государства к внешнеполитическим акциям РПЦ13. Она не смогла оправдать сталинских планов по созданию “православного Ватикана”. Вскоре последовало закрытие храмов, возобновление репрессий духовенства и верующих. Только по Костромской области за 1947–1952 гг. было снято с регистрации 25 храмов.
В 1952–1953 гг. положение церкви стабилизировалось, но в 1954 г. были предприняты новые попытки ограничения ее прав. В постановлении ЦК КПСС “О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения” от 7 июля 1954 г. содержался призыв “разоблачать реакционную сущность религии”. При осуществлении данного постановления в действиях советских и партийных работников сразу обнаружились очевидные перегибы.
Таким образом, процесс развития взаимоотношений государства и РПЦ в 1941–1954 гг. отличался сложностью и противоречивостью. Сохранив значительное влияние в советском обществе, церковь смогла развернуть в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления активную патриотическую деятельность. Свой вклад в достижение победы внесли духовенство и верующие Костромской епархии. Они собирали денежные средства на строительство танков, самолетов, оказывали помощь семьям погибших воинов и детям-сиротам, участвовали в боевых действиях Красной армии и партизанских отрядах. РПЦ способствовала реализации сталинских планов во внешней и внутренней политике. Но в суровых условиях советской действительности она осталась с народом, проявила невероятную жизнеспособность и была востребована обществом.
Примечания
1 Книга Памяти (Российская Федерация. Костромская область) : в 8 т. Ярославль, 1997. Т. 8. С. 32–33.
2 Верт А. Россия в войне 1941–1945. М., 1967. С. 107.
3 Центр документации новейшей истории Ярославской области (ЦДНИЯО), ф. 272, оп. 224, д. 310, л. 57; д. 315, л.128, 208; Государственный архив новейшей истории Костромской области (ГАНИКО), ф. 3656, оп. 2, д. 1909, 2411.
4 В грозном 41-м… : сб. документов и материалов 22 июня – 31 декабря 1941 года. Кострома, 2001. С. 7.
5 Васильева О. Ю. Русская православная церковь в 1927–1943 гг. // Вопросы истории. 1994. ¹ 4. С. 43.
6 ГАНИКО, ф. 2, оп. 1, д. 804, л. 2.
7 Государственный архив Костромской области (ГАКО), ф. р-2102, оп. 1, д. 2, л. 7,13.
8 Шапошников В. И. Пастырь. Слово о митрофорном протоиерее // Почетные граждане г. Костромы 1967–2201 гг. Кострома, 2002. С. 272–273.
9 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 6991, оп. 1, д. 5, л. 13–15.
10 ГАКО, ф. р-2102, оп. 1, д. 4, л. 15.
11 Там же, л. 30.
12 Там же, л. 29.
13 Васильева О. Ю. Русская православная церковь в политике Советского государства 1943–1948 гг. М., 1999.
© О. А. Прядкина, 2009
II Романовские чтения. Центр и провинция в системе российской государственности: материалы конференции. Кострома, 26 - 27 марта 2009 года / сост. и науч. ред. А.М. Белов, А.В. Новиков. - Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова. 2009.