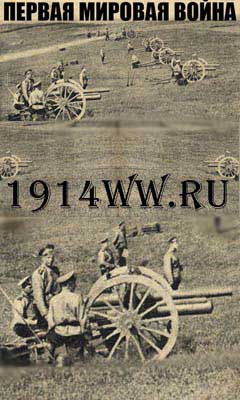Игорь ФУНТ (original) (raw)
К читателю
Авторы
Архив 2002
Архив 2003
Архив 2004
Архив 2005
Архив 2006
Архив 2007
Архив 2008
Архив 2009
Архив 2010
Архив 2011
Редакционный совет
Ирина АРЗАМАСЦЕВА
Юрий КОЗЛОВ
Вячеслав КУПРИЯНОВ
Константин МАМАЕВ
Ирина МЕДВЕДЕВА
Владимир МИКУШЕВИЧ
Алексей МОКРОУСОВ
Татьяна НАБАТНИКОВА
Владислав ОТРОШЕНКО
Виктор ПОСОШКОВ
Маргарита СОСНИЦКАЯ
Юрий СТЕПАНОВ
Олег ШИШКИН
Татьяна ШИШОВА
Лев ЯКОВЛЕВ
"РУССКАЯ ЖИЗНЬ"
"МОЛОКО"
СЛАВЯНСТВО
"ПОЛДЕНЬ"
"ПАРУС"
"ПОДЪЕМ"
"БЕЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ"
ЖУРНАЛ "СЛОВО"
"ВЕСТНИК МСПС"
"ПОДВИГ"
"СИБИРСКИЕ ОГНИ"
РОМАН-ГАЗЕТА
ГАЗДАНОВ
ПЛАТОНОВ
ФЛОРЕНСКИЙ
НАУКА
XPOHOC
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА
ЭТНОНИМЫ
РЕЛИГИИ МИРА
СТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
КАРТА САЙТА
АВТОРЫ ХРОНОСА
Игорь ФУНТ
Время как лента М…
Не трогайте регулятор веры,
вообще отойдите от гроба,
оставьте в покое.
Дайте дослушать, как погасает
в бесплотном театре заката
бесплатное море, полотна Европы, бесплатное поле,
за семь шекелей пыльная Яффа
и Ялта в вечерних огнях –
пересадка на Галлиполи.
(А. Грицман)
«История, точнее – история, с которой мы соприкасаемся,
похожа на засоренный клозет. Промываешь его, промываешь, а дерьмо всё равно всплывает наверх».
(Гюнтер Грасс, «Траектория краба»)
Дедушка умирал.
Пашка на цыпочках курсировал мимо дедовой комнаты, притормаживал, шёл дальше, притормаживал, становился, задевая ухом косяк, вслушиваясь, опять уходил, вновь возвращался, брался за ручку двери, озираясь, боясь чего-то, и… Из-за двери доносилось гулко, хрипло:
– Па-а-ша-а.
Это хрипит оттуда «дедо», сипло, надсадно; но без мамы навещать дедуню нельзя, и мальчик делал ноги. Убегал в свою комнату, бросался лицом в подушку и ревел, выл нескромно, ломающимся голосом, невыносимо, не по-детски – дедо был для него всем.
Деду стукнуло 55. Какой же это дед? – хотя Пашка в возрастах тогда не разбирался; тогда, долгих десять лет назад... Для него дед возвышался покрытым седыми снегами Килиманджаро, исполином, мохнатым чудилищем с большими тёплыми лапами, источающим запах моря, рыбы, сухофруктов и доброты. Дед с головой накрывал Пашку непререкаемым авторитетом, знанием всего и вся, видением самого мелкого даже, мелочного, потому что у него всегда припрятаны с собой волшебные очки, в карманах халата колдуют волшебные руки, особенно под Новый год и на Рождество, а в рукавах расчудесные, появляющиеся из ниоткуда подарки.
Он, конечно, подрос за последние год-два, но когда был чуть поменьше, дедовы ручищи крутили внука вертолётом по всему дому без права на возврат, на остановку, потому что сразу из «вертолёта» – взмывали под потолок, что называлось «парашютистами», и только потом – дозаправка до отвала во вкусно пахнущей кухне. Пашка не помнил, чтобы с дедом он когда-нибудь расстраивался, плакал, чтоб с дедом что-либо не получалось – всё получалось! – и через лупу солнце бумагу прожигало, и конфеты в карманах всегда ну точно шуршали, и табак очень вреден, но последний раз можно, и даже родители беспрекословно подчинялись деду, что уж говорить о самом Пашке – дедо был для него всем.
Пашка любил слушать дедовы рассказы про бабушку, к сожалению, ставшую для внука лишь сказочной страничкой – сам он бабулю не представлял, разве что по скудным фотографиям. От бабушки передалась по наследству затёртая до дыр книжка народных песен, по которой они, стар и млад, частенько спивали дуэтом, таким образом дед поминал рано ушедшую жену, а Пашка получал очередную порцию нежности и любви в виде замечательных ласковых, накрепко въевшихся на всю последующую взрослую жизнь песен.
Там, за дверью, возлежали на смертном одре, и Пашка это чувствовал – вольно или невольно оказываясь свидетелем родительских, полушёпотом, кухонных затрапезных бесед.
– Па-а-ша-а, – еле раздавалось из дедовой комнаты, но туда нельзя, вернее, можно, только вместе с отцом или мамой – таков семейный наказ, с полгода как выпущенный специально для сына, внука. «Травмировать», «ни к чему видеть», «пора в хоспис» – слышано сотни раз и выучено наизусть, – деду, по-видимому, осталось «недолго».
Пашке десять, он всё понимает, ощущает. Даже пропускал поначалу уроки с расстройства, но отец долго и обстоятельно с ним беседовал и убедил, что разгильдяйство ни к чему, школа тут ни при чём, и деду бы очень не понравилось плохое поведение внука; он соглашался коротким кивком в пол и терпеливо продолжал заниматься ради здоровья деда – вдруг поможет? – ведь так сказал отец: «Надо учиться несмотря ни на что, это поддержит, подсобит справиться с болезнью».
В тот день прибежал домой рано – скоро осенние каникулы, уроков задали мало – и сразу подкрался к двери дедовой спальни. Там молчок. Постоял, переминаясь. Отошёл. Вновь к двери. Взялся за ручку, нажал, приоткрыл – не заперто, осторожно заглянул.
– Заходи, внучек, – тихо подозвал дед.
Пашка заплыл в комнату – просто стоял рядом с кроватью, и всё – лицо серьёзное, в веснушках. Дед поначалу заговорил что-то о лекарствах, потом замолк, утомившись, зажав в своей ладони ладошку внука. Пашка помнил могучую дедовскую длань, большущую, сильную, горячую; сейчас было не так, эта была лёгкой, слабой, маленькой, холодной – он терпел, не ревел, просто так стоял, и всё. Стоял, не зная, что делать.
Дед, отдохнув, вновь открыл глаза, прошептал:
– Умираю.
Пашка знал, что помирать плохо, но не разбирался в значении слов «смерть», «угасание», «лучший мир», поэтому не пугался и не вырывался из дедовой холодной ладони.
– Умираю, – повторил дед и тихо вздохнул, урча внутренностями.
– Вот что, внучек, – показалось, дед оживился.
Пашка поднял влажные веки, потом, поддавшись слабому посылу больного, нагнулся и обнял его. Мочи терпеть больше не оставалось, и он заревел.
– Не плачь, милый… Вот что я хочу тебе сказать. Давай договоримся об одной вещи, хорошо?
Пашка размазал слёзы по лицу, мотнул согласно головой. Дед продолжил:
– Запомни. Пройдёт много времени, и однажды, будучи взрослым человеком, ты вспомнишь наш разговор. Просто запомни его, – дед замолчал, собираясь с мыслями, силами.
Пашка успокоился, продолжая держать деда за руку, внимательно слушая.
– Знаешь, дорогой, конечно, мне неизвестно, что будет там… Но я хочу тебе сказать: где бы я ни очутился, я всегда буду о тебе думать и постараюсь, как это получится, быть с тобой рядом и помогать тебе, всегда.
– Паша, – раздалось из коридора. – Ты где?
Пашка вздрогнул, оглянулся: в комнату зашла мама.
– Как ты, пап? – она совсем даже нестрого обняла сына за плечи, поцеловала его в макушку и присела на дедову кровать: – Как ты? – повторила она.
Дед безмолвствовал, закрыв глаза.
– Он устал, пойдём, сына…
Назавтра, нарушая родительский запрет, Пашка сразу метнулся в дедову комнату.
– Дедо, – шёпотом позвал он. – Дедо.
Постоял рядом, внимая неровному, с полухрапом, дыханию дедули.
Поправил больному одеяло, как это всегда делала мать, поглядел туда-сюда, швыркнул носом. Запах был, конечно, кисловат, нехорош, честно сказать, но к запаху они давно привыкли – его ведь не удержать в одной только комнате – запах жил с ними по всему дому, и это слабо сказано, но иначе нельзя, иначе не было б семьи; и то, что дед стал совсем по-другому пахнуть, смущая поначалу Пашку, обернулось потом овеществлённым проявлением заботы, любви, но уже любви по-взрослому, без хихиканья и детства, таявшего вместе с угасавшим дедой.
– Паша, – очнулся дед.
Пашка стоял уже у двери. Вернулся, вслушиваясь, не пришёл ли кто с улицы.
– Паш, помнишь парашютистов?
– Да, – с придыханием.
– Помнишь, как ты дотягивался до люстры, и она качалась, как луна?
– Я всё время промахивался, – ответил Пашка. Если он не доставал до «луны», то не становился героем-космонавтом, довольствуясь лишь званием простого «парашютиста». Но в последнее время долетать до луны удавалось всё чаще, и это было счастьем.
– И бабушкину книгу… – продолжал дед.
Конечно, никогда не забудутся их концерты. А книжка с песнями лежит у него под подушкой, и, казалось, согревает по ночам. В памяти не отложилось слов тех песен, но понятия о тёплом семейном очаге, беззаветной преданной дружбе, любви, храбрых красноармейцах, гибнущих за Отчизну, бескрайних полях, равнинах, сказочных лесах и деревушках с честными добрыми людьми намертво въелись в неокрепшую ещё душу.
– И календарь…
Да-да – календарь – это было их с дедом изобретение: дед научил внука торопить время, предсказывая будущее. К примеру, в понедельник они договаривались, что в конце недели после уроков пойдут в кино, Пашка обводил «пятницу» кругом, и все мысли с того момента работали только на долгожданный поход с дедом в кинотеатр – ведь там будет немыслимое количество вкусных неожиданностей. Но для этого ни в коем случае нельзя было схватить трояк или, не дай бог, двояк… И Пашка корпел, торопя минуты вскачь, и минутки ходили по струнке, повинуясь, незаметно придвигая пятницу ближе и ближе.
– Да-да, дедо, – Пашка сидел на кровати, опасливо поглядывая в сторону двери.
– И футбольный мяч.
– Он в коридоре… – парень представил забытый, закатившийся в далёкий угол мяч, осиротевший без «великого тренера», каждодневно занимавшегося со знаменитым футболистом Пашкой Сунцовым в коридоре первого этажа дома. Как они любили этот дом!
– Всё, что мы с тобой делали – это наше, твоё и моё; ты должен запомнить сегодняшний разговор; когда повзрослеешь – поймёшь зачем.
– Запомнить? – не уразумел внук.
– Да-да, ты обязательно потом его вспомнишь.
– И что, что тогда?
Дед помолчал, вновь собираясь с силами:
– И тогда ты меня увидишь.
В дом кто-то зашёл снаружи, и дедо подтолкнул Пашку на выход:
– Обязательно.
Пока нехотя брёл к себе в комнату, обдумывал слова деда, действительно пытаясь их затвердить: «Обязательно запомнить», – как зубрил перед контрольными формулы. Но, открыв дневник и взявшись за уроки, тут же всё позабыл: бесконечная грусть так же быстро, волной, отпускала, схлынув, как накатывала.
Обычно Пашка, толковый, башковитый, скоро, махом разбирался с задачками и «русским» и рвал когти на улицу – неустроенная отсутствием деда неуёмная мальчишеская душа не могла долго болтаться неприкаянной в ожидании неизбежного – на улице он становился простым весёлым пацаном, вливаясь в ватагу себе подобных.
Прошло десять лет.
Двадцатилетний, отслуживший в армии связистом студент Павел Сунцов был критически настроенным человеком, как впрочем и всё его «посткризисное» поколение. Да, острое, неприятное слово «кризис» стало звучать часто, порой нивелируясь, сливаясь с просто «жизнью». Жить в кризис стало нормой – выдюжившие в кризис готовились к очередным общественным припадкам как к событийной норме; изречения в стиле «апокалипсис» веселили богатых и абсолютно не волновали бедных, ведь бедные с каждым послекризисным годом обретались лучше и лучше, что отражалось в позабытых с советских времён панегириках власти самой себе.
В тот приснопамятный дефолт девяносто восьмого года у Павла Сунцова умер дед – это он отчетливо помнил последующее время своего взросления, лакмусом соотнося своё становление с бытиём до смерти деда и после, советуясь с ним в воображении, споря, даже неистово споря порой до тошноты, до опупения. Родители, слава богу, здоровы, веселы и бодры, хотя, конечно, так лишь принято говорить – родители заметно сдали, что греха таить, просто Пашка это увидел только сейчас, когда «стал на рельсы», оправился и поднял голову. Был он студентом политеха, подрабатывал в ночном клубе ди-джеем, дружил, даже можно сказать, горячо дружил с девочкой Машей с параллельного курса, что в конечном счёте привело к расставанию с родительским домом и переселением в съёмную квартиру.
Пашка стал взрослым, и эта взрослость ему нравилась больше и больше, и всё было впереди, и столько уже сделано! – и в то же время сделано ничтожно мало по сравнению с будущими перспективами, и голова кружилась от открывающихся с каждым наступающим днём возможностей; и наваливалось-накрывало ярким солнцем вновь обретённое счастье, основательно позабытое с поры беззаботной вольности.
Родители научили его считать и экономить гроши-деньжата, рубль к рублю, дед научил радоваться простому и быть добрым, Маша научила по-настоящему любить; Пашка впитывал новую жизнь, хотя новой она ему не казалась, потому как понимал, что выстроил свою жизнь сам, и гордился этим неимоверно, искренне.
Мысленно, он с усмешкой возвращался к себе бесшабашному, «доармейскому» – ведь так случилось, что служба в ВС совпала с кризисом конца двухтысячных, расколов его поколение на сытых офисных менеджеров, по зёрнышку выклёвывавших из минаевских «духлессов» крупицы несуществующего здравого смысла, ставших вдруг всем скопом смехотворным, никому не нужным офисным планктоном; и на трезвых серьёзных пацанов, жаждущих реальных капиталистических дел, подкреплённых базовыми техническими ли, художественными знаниями, плюющих на алкоголь и «легальную» наркоту из-под каждого угла, пацанов, отличающихся разве что молодостью, но это не дефект, это проходит.
После армии он «наткнулся» на Хаксли, Борхеса, которых с разбегу не одолеть, но вместе с одногруппниками, той частью, не обременённой с утра жуткой интоксикацией, они уносились в мир шестигранных вселенных, пытаясь выловить из окружающих груд словесного хлама, абракадабры и тысяч бессмыслиц «одну осмысленную строчку или истинное сообщение», одновременно не соглашаясь с антикоммунизмом Солженицына, что объяснимо – Борхес и звонче, и краше. Но и это не беда – пусть сравнивают – хоть какая-то надежда на просветление в будущем, пусть нескорое, но просветление…
Конечно, многое можно отдать за одну только сбывшуюся мысль из того, о чём автору этой повести мечталось там, в чёрном «негде» и «некуда», где думы о Лескове и Оруэлле заменяли краснознамённую повседневность стабильной до кровопускания страны, которая даже подумать не могла, что когда-то, где-то подрастут такие вот Пашки и скажут: «Спасибо, дед, спасибо, мама и отец, что я вырос честным, трудолюбивым и добрым и могу по совести, без обмана, удачно-выгодно работать на благо своё». И что жизнь свою он не купит, сдав товарища парткомовским крысам, не вымолит униженно, причмокивая и кланяясь в пояс, прося служебную квартирку в высотке на Котельнической набережной, чтобы потом оттуда вылететь, вышвырнуться с потрохами, пинком, в наручниках, уступив место более удачливому проныре-учёному или композитору, и тоже с мировым именем, хотя кому это интересно, коли важнее в той стране был простой факт выживания, факт самой возможности хотя бы как-то пристроиться-приютиться, а не громкое имя и не какой-то там блестящий патент по теории изобретательства… Но мы отвлеклись.
Пашка Сунцов читал, творил, работал, любил – что ещё надо человеку? Пороки… А ведь не было у Пашки изъянов, отклонений, психических аномалий, могло ли быть такое? Могло, однако. Может, хва уже пороков? – не пришёл, случайно, час нормального русского человека, творца, создателя, трудяги – кто ответит? Время и ответит, опять ответит за всё и всех всемогущее, всепроникающее Время.
Господи, прости их, они все о едином.
Ещё раз – это невыразимо словами.
Одно и то же по-эвенкийски и на ладино
имеет в виду ностальгию,
но означает лёд и, в то же время, пламя. –
– Вникал Пашка в многогранные, неисчислимые вселенные Грицмана и не понимал, как сладить с бытийным плеоназмом, перевирающим, выворачивающим наизнанку переизбытком навороченных понятий и нравоучений окружающую суть? Если ты согласен с чужой ложью – это твоя ложь, если не согласен – то не всё ли равно, кто первый её изрёк? – перефразируя древних китайцев, Пашка пытался объяснить себе мир, в который попал, потому как вечную мудрость заменила сиюминутная современная ложь, претендующая на истину; и, будучи чутким, настырным в поисках правды, в поисках того, что дед называл «прорвёмся», он видел, чувствовал её, иссякающую капля за каплей правду, исчезающую, как исчезали, уходили чудеса из любимого им с детства Средиземья Толкиена.
Дитя интернета, Пашкино поколение лихо усвоило глобальные заповеди человеческой вселенной, хватко пользуясь ими в зависимости от обстоятельств: от меркантильно-популярной «Just in time» – «Здесь и сейчас», убивающей маленьких человечков теорией пресыщения уже с пелёнок, до заповедей «Нового мирового порядка» Американского Стоунхенджа, одна из которых гласит: «Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармони с бесконечностью», полирнув всё это подзабытыми школьными Пушкиным и Достоевским, вряд ли совместимыми с продуктами быстрого приготовления современной индустрии коммуникативных технологий.
А ведь ещё куда-то надо расфасовать, на какую-то полку мировосприятия поставить фигурку Бога, которого так и не разъяснила толком школа, – которого не смогли предъявить теологи людям в будёновках, поборникам научного атеизма, – того самого Бога, что поминают всуе добрые солдатики, перед тем как покрыть ковровой бомбардировкой освобождаемую от безбожников, точнее, не в того, не в «нашего» Бога верующих, территорию, безбожно, безобразно круша, кромсая Историю; вполне по Попперу, только всучив теологам М-16. В итоге неверие в попперовскую демократию вырастало, перерастало во вполне живучую божественную комедию Хайека – комедию самых эффективных в долгосрочном плане носителей и хранителей информации – Денег, превращающих все благие начинания в Трагедию, Хаос, Бунт и даже в Смерть. Тут мы подошли к сути.
Всегда, во все времена человечество спотыкалось, тормозило, задумавшись, уткнувшись в понятие смыла жизни. Притормозил и Пашка, но не для того, чтобы остановиться – а чтобы разогнаться, прыгнуть, рискнуть, осознав к двадцати годам заведомую конечность своего бытия, раскусив-расчухав, что достижение смысла жизни – в непрерывности её процесса, в непрестанной интерполяции в неё нового, вновь найденного, свежего знания. Не так давно усмотрел он и второе простое правило – «честно вешая, в хлеборезке не удержишься», – и просёк-подметил, что принцип этот арестантский, выведенный задолго даже до намёка на что-то человеческое, людское в нашем мире, действует и по сей день, пропитав российскую действительность, как баланда хлебный мякиш, оборачивая повседневную реальность в демократическую тюрю из невыполнимых обещаний, и опять, как в той противоречивой до безобразия и любимой до отречения Великой стране, о которой рассказывал дед, надо лавировать и выворачиваться, изловчаться и подстраиваться, оставаясь верным лишь самому себе, своим принципам да дедовой памяти.
Дитя интернета и десятилетия двух сильнейших мировых кризисов, под стать японскому землетрясению, дитя информационных, под стать террористическим, взрывов конца нулевых – начала десятых, Пашка, как и большинство его одногодков в стадии возмужания, весьма зауважал Федеральную резервную систему США, расчётный центр всей американской экономики, не дрогнувший как под лавиной перепроизводства «зелёных», так и под катастрофическим наплывом техногенных катаклизмов, несмотря на коллапс Бреттон-Вудских соглашений, превративший доллары в фантики, как в своё время пара десятков фантиков в довесок с бусами для пройдох-индейцев превратились в Манхэттен.
Сопоставляя силы и давая себе отчёт в схожести фондового рынка с русской рулеткой, прекрасно плавая в информационном океане завышенных в десятки, сотни раз взаправдашних ожиданий виртуальной прибыли, зависящей не от реального роста производства, а от клоунских новостных спектаклей, Пашка, досконально изучив причины «Великой депрессии» 30-х годов, нырнул в Систему, заведомо, в любую секунду готовую к обрушению по мановению её хозяев – двадцатки частных банков во главе с Рокфеллерами и Ротшильдами, «умело» отсутствующими в списках «Форбс», якобы не дотягивая до миллиардеров, но в то же время щелчком одного пальца влияющими на стоимость золотых запасов в хранилищах Форт-Нокса. Это восхищало своей непоколебимой массивностью, невероятным умом, умением и глобальным, до поры, терпением, этому хотелось подражать, хотя чувство неведомой опасности было сильно.
Но ведь и Учитель у Пашки был неплох – мировая история развития денежных отношений! Чего ж бояться, коли весь белый свет живёт за счёт кредитных инъекций, реальных, виртуальных – уже не важно. Важно другое – ассимиляция, внедрение в Систему, в общество первобытных инстинктов, подпитываемых не чем иным, как Деньгами, силой животворящей, крутящей, раскручивающей Землю. И, подразумевая цель, вскинув над вихрами знамя с изображением спасителя Америки начала прошлого века величайшего магната-олигарха Джона Пирпонта Моргана-старшего, которому в пояс кланялся президент Рузвельт в просьбе помочь гибнущему под лавиной «паники девятьсот седьмого года» Новому Свету, Пашка со товарищи двинулись в нелёгкий трейдерский путь, положив головы-головушки на алтарь инвестиционных алгоритмов – где математическая теория вероятности сталкивается с марихуановой непредсказуемостью четырёхрукого индийского Шивы, древнейшего символа демонизма, детерминизма и азарта, держащего в руках кубок («черви»), меч («пики»), монету («бубны») и жезл («крести»), – прародителей карточных мастей как символа извечной непредсказуемости жизни.
Сблефовал, рискнул честный и ответственный до посинения Пашка лишь в одном – первоначальные трейдерские доллары пришлось занять у отца своего друга, что, впрочем, не противоречило выстроенным, продуманным брокерским схемам и наработкам их амбициозного молодого коллектива из шести человек-студентов. Прибыль должна была покрыть заёмные средства через определённое время, чётко выверенное в аналитических прогнозах – в этом Павел Сунцов, как единогласно выбранный лидер вновь созданного бизнес-сообщества, не сомневался.
Прошёл год.
Приняв биржевые правила игры и получив главный урок пролетевшего секундой года – «Прочь гуманизм!» – Пашкина компания набрала обороты, можно сказать, заматерела. У Павла Владимировича Сунцова с друзьями-партнёрами вполне так отчётливо нарисовалась небольшая фирмочка с представительством, арендованным в центре города, начала появляться постоянная клиентура, организовались кое-какие активы в виде пакетов акций ликвидных предприятий; бережно, постепенно откладывались рублики на покупку долей реального сектора в пику виртуальному – в общем, инвестиционную политику компании можно было бы назвать оправданной и перспективной, не случись вдруг одного «но», не связанного ни с Рокфеллерами, ни с Ротшильдами.
Что нас связывало?
Трудно сейчас сказать.
Наверное, некуда было деться...
Грицмановские строки подошли бы к тысячам историй человеческих расставаний, разладов, но Пашкин разлад с друзьями тем был особенным, что им, друзьям-партнёрам, не за что было друг друга предавать. Молодость, амбициознось – да; скорость, быстрота реакции, деловая хватка – да; но были они чисты и непорочны единением своим, дружбой, помыслами… Тут автору приходится сделать отступление в повествовании – и заглянуть в те времена, где Пашка ещё ребёнок и, отчаянно крепясь руками, свешивался он с дедовой шеи, пытаясь не грохнуться в пол. А на дворе стояли 90-е…
Конечно, новорусские реальные пацаны, бандиты 90-х, не читали советского поэта Давида Самуиловича Кауфмана (псевдоним Самойлов) – но, будучи по жизни цепкими, ориентируясь не на долгосрочные, стратегические перспективы, а на «Just in time!» – урвать тотчас! – что требовало звериной, мгновенной интуиции – они невероятно чётко, верно оценивали происходящее как в стране, так и в человеческих отношениях: «Дружба – это когда можно ни с того ни с сего приехать к человеку и поселиться у него», – задолго до капиталистической драмы 90-х изрёк писатель Кауфман вечную фразу, аксиомой подхваченную «реальными пацанами», свято чтившими свой, пацанский, не писаный думскими заседателями Закон.
«Властители дум» в спортивных костюмах марки «Adidas» вообще не были в курсе того, что кодекс их «Понятий» корнями уходил во времена древнего Аркаима, насквозь пронизывал и вбирал Христовы заповеди, шариатские постулаты, героические мифы Триады, Якудзы, романтику пиратской республики Сале на Атлантическом побережье Марокко XVII века. А конституция раздела награбленного «охранников» караванных путей gabelotti, предшественников сицилийской мафии, и вовсе смахивала на конституцию государственную, что ж говорить о «реальных пацанах». Нечего сказать, коли уже Св. Августин в IV в. н. э. сомневался в законности раннехристианских государств: «Что такое государство, если не большая банда, и что такое банда, если не маленькое государство?» – спрашивал он. Но суть не в том.
Пацаны 90-х, свято веря в оправданность пролитой крови недружественных группировок, своему Уставу доверяли тоже свято, беспрекословно выполняя заповеди типа «Дружба – священна», нещадно карая отступников и крыс, втихую позарившихся на общаковый кусок, и дружбу проверяли именно дедовским, «кауфманским» способом – при необходимости используя жилище братана-товарища в нужных общему делу целях – загасившись, пережидали опасность, хранили оружие, фасовали наркоту, да мало ли ещё чего…
Действуя эмпирически, интуитивно отталкиваясь от полученных в несладком бандитском житии знаний, российские пираты 90-х, сами того не ведая, заложили для будущих поколений немалый исторический пласт пройденного ими опыта, пусть негативной, кровью накопленной, но Информации – которая наверняка на генетическом уровне когда-то всплывёт в чьих-то поколениях, ведь ничего в нашем мире не бывает посеяно зря. И хоть соблюдали бандиты свой устав, им никак не удалось отойти от законов бытия – исторических традиций, обычаев – потому что нет людей без истории, как нет истории без людей, плохих, хороших, не важно. И они создали её – грустную Историю своего нелёгкого времени – ценой своих и чужих жизней; повинившись перед предками, что не наступило ещё благоденствия, потомкам же послав трагическое предостережение ещё об одной бессмысленной исторической ошибке.
Как они так быстро повзрослели, посуровели?
Что позволило им, светлым, юным, подающим надежды, скатиться в давно уже пройденное, грязное, нечестивое? Откуда всплыла в них жажда предательства, жажда делить не добытое ещё, неосвоенное, несуществующее пока богатство? И будет ли оно вообще, эфемерное несметное богатство – символ и чаяние современных молодых людей? Вот и ответ, вернее, попытка ответа, господа, на такие вроде бы наивные, но веками неотвеченные вопросы: почему гибнет мир, почему нет согласия меж народами, государствами, и почему идут войны? Со времён Оксеншерны, эпохи беспощадных тридцатилетних средневековых войн, до них и после, корысть – словно пыль, которую лукавый пускает человеку в глаза для того, чтобы он не знал ни справедливости, ни долга, ни чести, ни дружбы. Ради корысти скрывается истина, ради корысти человек превращается в животное, благим поступкам предполагая самые низкие побуждения, помыслы, переворачивая всё с ног на голову. И вот уже Человек, живущий от предков к потомкам, являясь звеном длинной цепи поколений, черпающий силы из глубины времён, уподобляется зверью, довольствующемуся одним днём. Но вернёмся к рассказу.
Его предали, оставив наедине с огромными долгами, кредитными обязательствами, клиентскими договорённостями, неликвидом, с протухшими акциями лопнувших предприятий – создав при этом дочернюю параллельную структуру, владеющую умело выведенными из оборота Пашкиной фирмы ликвидными активами и приличными денежными средствами. Пашка, по простоте душевной, по дедовской прокуренной честности оформлявший все обязательства, в том числе долговые, на себя, позволяя товарищам свободно распоряжаться документацией и оборотом фирмы, остался с носом, да с таким, что пяти жизней не хватило бы рассчитаться. Друзья отняли у него не Деньги – друзья-партнёры лишили Мечты, выстраданной, невосполнимой.
Пашкин мир рухнул, не успев толком сформироваться. Кто оказался умней – приятели, в одночасье ставшие врагами, или Система, заведомо ведшая всех их, неокрепших, не к богатству, а к разложению? Пашка не знал. Не знал он и того, как сейчас будет из всего этого выкарабкиваться. В прокуратуре сказали, что на «мошенничество» дело не тянет, поэтому милости просим – в гражданское делопроизводство, что в нашей стране равняется бесконечности. Адвокат, вникнув в суть проблемы, сообщил, что рейдерство совершено классическим способом, то есть с помощью самого дурака Пашки, слишком уж доверявшего своим компаньонам – со товарищам. А проценты по долгам капали ежедневно. И улетел уже в суд первый иск о материальном возмещении, и второй, и третий. А ведь поручителями по долговым обязательствам у Павла Сунцова были оформлены родители – и мысли об этом терзали и убивали его день и ночь, и ночь и день. Он влип полностью, с головой, по самые уши, по самое что ни на есть «не хочу».
Только поздней, побегав по неисчислимым инстанциям – язык на плечах, – измученный, обессилевший, пытаясь пристально вглядеться в глаза верных когда-то соплеменников, отводящих взгляд, пытающихся держаться неестественно нагло, нахрапом; сопоставив факты, он вдруг понял, кто за всем этим стоит – тот самый отец его лучшего друга, который вначале дал первый кредит. За недели судебных мытарств, вконец разорившись и лишившись всякой надежды сохранить родительский дом – их с дедой неприступную крепость – он свёл воедино всю мозаику произошедшей с ним беды. Вот он – презрительный исподлобья боксёрский взгляд беспощадных 90-х! Так смотрел на него батяня его бывшего друга – и ни просвета жалости в том взгляде! – и Пашка не был готов к такой внезапной, скоротечной войне, – его раздавили, унизили, уничтожили, расплющили как вшу, как ненужную нечисть, шваль. Осталось только забрать у него дом и слить его помойным ведром под лестницу своего же подъезда, куда, в детстве, он так спешил из школы рассказать дедо об экскурсии в ботанический сад.
Он стал взрослым. Стал взрослым, поникшим стариком. Завтра последняя подпись – и у «вас две недели, чтобы съехать с проданного дома». Пашка никогда не думал, что в действительности может случиться что-то подобное. Да, по телевизору и не такое покажут, но то ж «на публику», то ж «фигня, подстава, розыгрыш для лохов»… Кто, в какой стране, в какой реальности может забрать у человека дом, имущество, семью, забрать всё без права на апелляцию, без права ни на что? Девочка Маша как-то болезненно приуныла, скисла, незаметно исчезнув, растворившись в тяжёлых буднях; родители, потеряв дар речи, с потухшими глазами, опущенными плечами молча сидели в прихожей, глядя сквозь пол в землю, под неё, в преисподнюю, в никуда, в «некуда».
Прошло две недели.
Слава богу, хоть родители уехали – тройная тётка приютила их в Петрозаводске на время, какое время? Слава богу, всё кончено, и нет больше никаких мыслей, побуждений и надежд, слава богу – прекратились мучения и невыносимые унижения в лапах правосудия, рвущих душу на части, на куски, в клочья, слава Богу… Осталось только передать ключи от пустого дома и уйти – куда? – какая разница тем, кто всё это устроил? Что до Пашки, кому какое дело, главное, родителей нет – нет по близости их рук, глаз, не слышно неестественно лёгких шагов, лёгких оттого, что мать с отцом истаяли, исхудали, изошли, превратившись в привидений, бессмысленно бродивших по когда-то собственному дому, построенному Пашкиным дедом. Это был дом дедовой гордости, счастья, дедова незыблемая твердь, очаг. Как все они любили этот дом!
– Здравствуйте, Павел Владимирович.
– Здравствуйте.
– Я, так сказать, за ключами.
– Я понял.
Пашка впустил в дом юриста, нанятого приобретателем имущества.
– А где сам… хозяин? – выдавил Пашка.
– А-а, зачем, так сказать?..
– Я дам ключ лично ему в руки.
– Но… мы, так сказать, договаривались об обратном…
– Дам лично в руки, – твёрдо оборвал юриста Пашка, уверенно поднимаясь к себе в комнату на втором этаже дома.
Юрист, чуть помявшись, произнёс:
– Ну хорошо, раз так.
Набрал номер телефона.
Через полчаса внизу раздалось нетерпеливое:
– Ну что там ещё за выкрутасы?
Голос был очень раздражённым, занятым, его обладателя, видно, оторвали от важных дел.
– Он, так сказать, наверху… у себя.
– Какое на хрен «у себя», пойдём быстрей!
По лестнице застучали тяжёлые, торопливые шаги. Впереди Он, сзади юрист.
Навстречу гостям Пашка вышел из своей комнаты.
Первый выстрел – Ему в живот, второй – туда же, третий – туда же. Пашка не умел стрелять, боялся промахнуться, но Он завалился спиной на нижестоящего юриста, ополоумевшего, начавшего истошно кричать – Дом не боялся крика – криков последнее время Дом пережил предостаточно. Пашке пришлось подойти ближе, чтобы попасть юристу в голову, тот уже бросил своего нанимателя, развернулся спиной, чтобы убежать – последние пули Пашка вогнал ему в спину, и юрист упал замертво, чуть скатившись вниз, стукаясь лицом об лестницы.
«Контрольный в голову», – пронеслась мысль, да пуль уже не было. Судя по неестественным позам лежавших перед ним покупателей дома, жизни в них не осталось ни грамма. Пашка отстранённо, медленно поднялся наверх и принялся зачем-то сочинять объяснительную для милиции. Обязательная натура, знамо, требовала логического завершения свершившегося. Лихие девяностые проглотили очередного засидевшегося в живых бойца, посткризисная предолимпийская страна выплюнула не удержавшегося на шатких рельсах семимильного процветания слабака, не заслуживающего даже намёка на вседержавное внимание, зачем? – есть же китайцы, азербайджанцы, молдаване, наконец; – что нам какой-то Пашка, обыкновенный преступник, мать его!
Выстрелы наверняка услышали на улице прохожие, милиция примчала быстро. Он уже заканчивал писанину. Потом всё завертелось-закрутилось вместе с резиновыми ударами полутонной дубины по макушке, спине, по печени.
Вот и всё, в принципе, можно заканчивать. Пару слов только под конец:
И вот я гляжу сквозь веки и прошу: усни.
Только там до утра и возможны встречи.
Когда клочья полицейской сирены висят во сне
на ветке сирени у истока ночи. –
– Знал, Грицман жил в США, но писал о родине, о России. Некоторые стихи Пашка выучил наизусть, к ним на курс как-то залетела мода на необычных «иностранных» авторов, и Пашке полюбилась поэзия Грицмана. Нравилось, импонировало оригинальное видение настоящего сквозь историческую призму прошлого.
Он лежал на шконке в камере СИЗО и надрывно постанывал, иногда проваливаясь в забытьё. В забытьи намного легче – опера поработали на славу, вытряхнув останки мыслей, сознания, стараясь выведать все Пашкины криминальные концы, связи, тут же причислив заключённого к террористам, тут же навесив на него всех несчастных собак, бродивших по округе. Сил действительно не осталось – в неуёмном желании сорвать большой куш «большого» раскрытия менты, конечно, перестарались. За годы службы отрастив животы и тройные подбородки, в ожидании скорой переаттестации из «милиции» в «полицию», опера отрывались по полной – стопроцентное дело как-никак, а ежели поднатужиться, додавить, то можно понавесить глухарей – успевай только палкой отогревать! – всякого лешего подмахнёт касатик, ему всё равно кирдык, а нам лишняя звезда не помешает перед вступлением в переименованную Президентом структуру. Они и додавливали-доламывали, а Пашка подписывал, подписывал, лишь бы не били больше – жизненных соков, энергии в кровотоке уже не было.
В полубреду всплыла-вспомянулась «Лента Мёбиуса» Кортасара… После очередного допроса Пашку, беспомощного, ссохшегося, бросили на бетон, и он тут же потерял сознание. Герой «Ленты» тоже ждал смерти. Почему тоже? Так ведь чем «пожизненное», сулимое жестокому злодею Павлу Сунцову следаками, лучше смерти? Гильотина за скотский поступок, гильотина за убийство прекрасной Жанет, которая за гранью земного бытия вдруг простила своего душегуба-насильника – так ему казалось, или так было на самом деле? Только Пашке прощения не нужно. Он выполнил то, что обещал дедо: быть честным до конца, пусть и дорогой ценой, так завещали красноармейцы из бабулиной книжицы, до сих пор лежавшей под подушкой в его комнате. «…и нужно было совершить некий переход, чтобы из блаженной кубичности перенестись в горячечную круговерть формул, или стать трепетом тропической листвы, или потеряться в холодных стеклянных бликах, кануть в мальстрем плавящегося, пузырящегося стекла, или обернуться гусеницей, мучительно ползущей по изогнутым плоскостям или одолевающей грани многогранников». – Арестант-мокрушник не помнил слов досконально, он просто ощущал их нужность в данный момент, его согревали свои студенческие, потом детские воспоминания, потом…
– Дедо, – позвал он.
Ужасно холодно; затравленному, сломленному, ему даже не укрыться – жгучая боль не давала никакой возможности пошевелиться, тем более дотянуться до жидкого, рваного одеяла, скомканного в ногах.
– Дедо…
Пашка не мог взять в толк – открыты глаза или закрыты? – он что-то неясно видел, что-то вроде большого поля, но хотелось себе ответить – это наяву или в бреду, и снова: «…бесчувственно, слепо, бесконечно – лента Мёбиуса, переползание с одной стороны на другую, незаметное, поскольку границы между плоскостями нет и нельзя сказать, на какой из них находишься сейчас, быть может на обеих, и так без конца, – медлительнейшее, мучительное движение, ползком, там, где нет даже меры медлительности и страдания, а только само чувство движения ползком, медленное и мучительное». – «Лента» произвёла на него в юности неизгладимое впечатление животрепещущей правдой и чувством какой-то безысходной невосполнимости, потери, так похожей на погибшую Мечту… Потери, которая даже за последней чертой пыталась обернуться смыслом, но не найти смысла в Смерти, хоть заплачено за костлявую немало.
Кто-то бережно укрыл его, и Пашка понял – это не бред, – и тогда он спокойно уснул.
– Кто умер… как?! – взвыл начальник караула.
– Вы что, е… вашу… Как вы смогли допустить такое?! Я же, б…ь, под трибунал, под статью вас!!! Какого … творите, мрази, что лепите? Быстро, врача сюда, докладную: сердечная недостаточность, слабое здоровье… Отмыть его, отчистить, чтоб как новенький, б…ь!
Пашка шёл по огромному летнему полю где-то в центре необъятной России, что это Россия, он осознал сразу – только здесь такая бескрайняя умиротворённость – воздух соткан из запаха клевера и свежескошенного сена, и нет конца расстоянию. Пашке десять лет, он не идёт, а ледоколом, дирижаблем плывёт на могучих дедовых плечах, зрит, ладошка козырьком, далеко-далёко – дед крепко-накрепко держит внука огромными, сильными ручищами; дед похож на Килиманджаро, а Пашка – на героя-космонавта. Деду, конечно, идти далече, до самого края, которого не видать, но это не проблема – Пашка для него пушинка, – и Пашка-пушинка на дедовых плечах чувствует себя невыразимо, несказанно счастливым и от этого улыбается – весь в веснушках – рот до ушей. За бескрайним, навечно бесплатным полем наверняка должно открыться бесплатное море, там, может быть, покажется Ялта в вечерних огнях, а может, и что другое…
«История - сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего».
(Мигель Сервантес)