Жизнь проста, если прыгнуть с моста (original) (raw)
Необыкновенная легкость в рифмах и мыслях, тьма вместо дна и сборник трех интересных поэтов: раз в месяц Лев Оборин выбирает и рецензирует главные поэтические новинки. В сегодняшнем выпуске книги Алеса Валединского, Натальи Романовой и сборник «Русские верлибры».
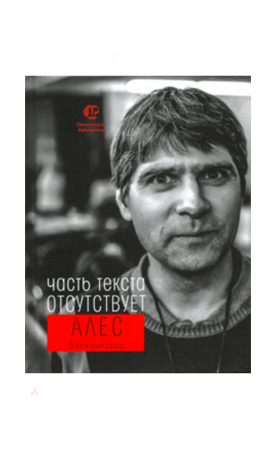 Алес Валединский. Часть текста отсутствует / Предисловие Анны Герасимовой (Умки). М.: Время, 2019
Алес Валединский. Часть текста отсутствует / Предисловие Анны Герасимовой (Умки). М.: Время, 2019
Алес Валединский известен в первую очередь как руководитель независимого лейбла «Выргород», выпускавшего поздние альбомы «Гражданской обороны», музыку «Адаптации», «Черного Лукича» и других важных панков и рокеров. Среди книг, изданных под той же маркой, — сборники текстов Янки Дягилевой и Егора Летова (та самая белая книга, на которой гадают в программе «Ещенепознер»). Собственные стихи Валединского довольно сильно отличаются как от Янкиного надрыва, так и от летовской едкой и шаманской формульности. Из авторов, связанных с сибирским панком, ближе всех к Валединскому стоит Владимир Богомяков — но при некотором родстве поэтик явно несходны обстоятельства письма. Богомяков работает лаконично. Валединский фонтанирует: в этой книге, где собраны стихи, написанные с 2012-го по 2017 год, везде проставлены даты, и часто мы сталкиваемся с массивом текстов, созданных в течение одного дня (штук до десяти). Получаются нестрогие циклы, объединенные иногда темой, иногда варьированием тех или иных строк, но чаще — поэтическим зарядом, импульсом, хорошо ощутимым на бумаге и передаваемым через дерганый стих, близкий одновременно к народному раешнику и к опытам обэриутов:
Хочется не умереть, А уйти по воздуху за далекие горы, Где не найдут. Или найдут нескоро, Когда километровая скала станет мала, Песчинку сдует ветер. И все на свете Хочется увидеть и на нитку нанизать. Увидеть маленьких отца и мать. Жить сразу в семи семьях, Быть каждым из них, везде, со всеми…
Принцип полноты и даже своего рода фетишизация случайности, взятые здесь на вооружение, заставляют включать и откровенно незначительные тексты-скрупулы: «Вышел форменный конфуз: / Стал я кормом для медуз», или: «Семенит Сатурн по орбите. / Извините его, извините!». Но среди таких микростихотворений попадаются и целостные, удачные афоризмы: «Жизнь проста, / Если прыгнуть с моста»; такого не постыдились бы, наверное, Герман Лукомников или Олег Григорьев, еще один поэт, Валединскому родственный. Впрочем, en masse Валединский не минималист. Главное в его технике — нанизывание строк, монтаж реплик, подражание живому и не всегда связному разговору:
Время в пути. Ничего особенного. Справа — Корсаков, Бехтерев, слева — Собинов. Сколько человечин, столько и малых родин. Ишак не вечен. Маршрут не пройден. Возвращайся до подземного перехода, До 1914 года. Одевайся, поедем в метро кататься. Между «Академической» и «Профсоюзной» Выросла новая станция — Неопознанная, необузданная.
Легкость в мыслях и в рифмах необыкновенная — такая может завести на грань фола, а может и к сновидчески-звуковым откровениям: «Тело прибывает на опознание / Засыпает сознание / Сам себе пригород пасынок зять / Сорвиголова Калигула / Пышная печь шипит — наших прибыло». Эти стихи похожи на «прыжок веры» из третьего и лучшего фильма про Индиану Джонса: поэт с каждым следующим шагом может ухнуть в пропасть, но наитие стелет перед ним в пустоте дорожку. В конце концов так недолго и увериться, что слово может стать плотью, хлебом насущным: «Ишака покорми, вот слова-морковки». Гумилев нам рассказывал, что когда-то словом останавливали реки, но вряд ли он мог предположить, что на эту магию станет претендовать поэт с таким кредо:
Берешь слово, меняешь на созвучное. Хочешь испортить — получается только лучше.
Разумеется, в таком признании есть самоирония, но она — опять-таки, с завидной легкостью — преодолевается. Вообще траекторию этой книги, выстроенной в хронологическом порядке, можно обозначить как «от иронии к постиронии» (с экскурсом в тревогу: в стихах 2014–2015 годов настойчиво возникают советские языковые штампы, а еще — пули и отрезанные головы: конкретных публицистических привязок нет, но, если вспомнить тогдашние новости, контекст становится очевидным). Языковой штамп (вспомним и название всего сборника — «Часть текста отсутствует») вновь, после концептуалистов, можно обжить и полюбить. Если в 2012-м совершенно уместно иронически обыгрывать коммерческий язык, профанирующий высокие слова («— Это какая станция, уважаемый? / — Сантехнический рай, подъезжаем»), то в 2017-м за пафосом Чего-То Большого можно разглядеть какое-никакое обещание:
Троллейбусы, автобусы и даже грузовики Обращаются к Богу, заплывая за буйки. Семь минут назад Начался большой экономический спад И новая геологическая эпоха. Я думаю, это неплохо.
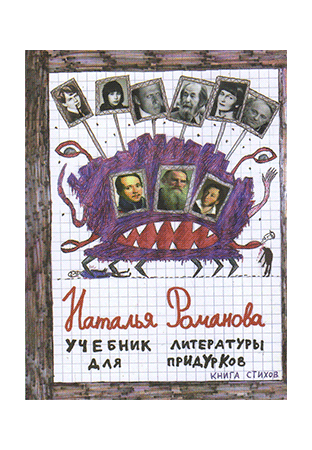 Наталья Романова. Учебник литературы для придурков. Новосибирск: Подснежник, 2019
Наталья Романова. Учебник литературы для придурков. Новосибирск: Подснежник, 2019
Лавкрафтовское чудище на обложке держит портреты русских классиков: цветной XIX век, черно-белый XX. Осмеяние, развенчание и передразнивание русской литературной традиции — сама по себе почтенная традиция, причем в своем корне питерская — от хармсовских «Анекдотов из жизни Пушкина» до «Моей антиистории русской литературы» Маруси Климовой (за Москву отдувается Сорокин с «Голубым салом»). В новой книге панк-поэтессы Натальи Романовой, как гласит аннотация, «классики русской литературы волей автора помещены в страшные и комичные условия жизни России сегодняшнего дня». Они «либо оборачиваются самыми презираемыми и гонимыми представителями современного общества, либо воплощаются в запредельное нечеловеческое зло». Среди классиков мелькают и современники — разумеется, петербургские: например, Дарья Суховей или Александр Ильянен.
В известном собрании литературных анекдотов братьев Ардовых есть байка о Федоре Панферове — писателе, персонифицирующем самые черные глубины соцреализма. Он некогда издал роман с таким сюжетом: «Будто бы Пушкин и Лермонтов воскресли, путешествуют по Москве тридцатых годов и восхищаются большевистскими достижениями» (я тщетно искал эту книгу). Романова проделывает похожую операцию: меняет знак с плюса на минус и заставляет воскрешенных классиков пережить падение в бездну нынешних нравов. К примеру, кастрированный Чернышевский превращается в Николая Баскова, а Хлебников оказывается ботом с ольгинской фабрики троллей: «В поэтах был я лох, молчальник, / дрочила, девственник, юрод. / А в этой жизни мой начальник / теперь меня имеет в рот». Впрочем, классики, случается, мстят жестокому миру, и тогда российские улицы усеиваются трупами.
Иногда макабр у Романовой и впрямь получается образцово придурочным (баллада о Цветаевой и Тарковском, начинающаяся строкой «Как правило, поэтессы намного пошлее шлюх», или история о депутате «Единой России» Василии Жучаре, который изнасиловал покемона, а потом обнаружил, что его жертвой был Пушкин). А иногда «взгляд классика» оказывается чем-то вроде лорнета с сильным стеклом: вещью старомодной, но безошибочно укрупняющей недостатки современности. У этой сатирической позиции есть своя уязвимость. Шутовской извод социальной критики в современной русской поэзии на удивление однотонен — скажем, первое стихотворение в книге не отличить от Всеволода Емелина:
И голос его волшебный меня пробивал на плач. Россию любил душевно и в драках он был горяч. Носил он зипун и ватник, дегтярные сапоги. Он наш патриот и ватник, сгубили его враги.
Это про Сергея Есенина (который остроумно именуется «молодым повесой»), но Есенин Романовой не так интересен, как бездуховное общество, куда он по ее манию перенесся:
И так он в петле болтался, застряв на полустрофе, и ватник его валялся в буржуйском антикафе. Там в каждый второй фалафель закладывают глиста. И в глотки пихает вафель богатая хипстота.
Зато когда социальный комментарий уходит на второй план, получаются впечатляющие городские баллады — например, фантасмагория о Маршаке, который истребляет своих юных читателей, словно списанных с Бивиса и Баттхеда, или об обэриутах — жертвой франкенштейновской вивисекции, или о Маяковском-потрошителе, который «пожирает поэтов, чиновников и собак, / на ходу разрывая их тулово пополам». Разумеется, второй план не исчезает вовсе: помимо прочего, перед нами отсылка к тоталитарности образа Маяковского, и в этом смысле книга Романовой честно исполняет свою жанровую миссию. Пускай для придурков, а все же учебник литературы. В рамках той же миссии стихотворение о Блоке, написанное размером «Незнакомки», искаженно воспроизводит ее мотивы, а последнее и лучшее (на фоне остальных) стихотворение сборника кратко излагает, с поправкой на лексику, инвариант русской литературной безысходности:
На дровнях обновляет путь в Московию Радищев. Его перо достигнет дна, а нам не будет дна. На каждой станции сойти — хоть Ртище или Днище, а хоть и Сратов — вместо дна зияет тьма одна.
В общем, самая зримая новация здесь — идея представить русский литературный пантеон в виде демонологических персонажей. Из Пушкина-Лермонтова-Достоевского уже делали и идиотов, и клонов, а вот вампиров и Фредди Крюгеров, кажется, еще не делали. Между тем в таком обличье их, должно быть, видят несчастные школьники, испокон веку подрисовывающие портретам в учебниках рога и клыки. «Не бойтесь, придурки, — как бы говорит им Наталья Романова, — вот вам нормальный учебник, уже изрисованный».
 Дмитрий Данилов, Игорь Караулов, Юрий Смирнов. Русские верлибры/ Предисловие Вадима Левенталя. М.: Флюид FreeFly, 2019
Дмитрий Данилов, Игорь Караулов, Юрий Смирнов. Русские верлибры/ Предисловие Вадима Левенталя. М.: Флюид FreeFly, 2019
В поэтическом фейсбуке эта книга уже прославилась благодаря феноменальной аннотации на обложке: «Вы держите в руках сборник, объединивший поэтов, которые впервые дали национальное звучание верлибру. Перед нами начало новой мощной традиции в русской литературе. Эта книга перевернет ваше представление о настоящем русской поэзии». Заявлять такое после Геннадия Айги, Владимира Бурича, Елены Гуро, а также стихотворения Блока «Она пришла с мороза…» — отважная идея. Не говорю уж о мощной верлибрической волне последних трех десятилетий: она была манифестирована в ежегодных фестивалях свободного стиха (первый прошел еще в 1990-м) и запечатлена в только что изданной Анной и Юрием Орлицкими двухтомной антологии «Современный русский свободный стих». По алфавиту, от А до Я, в этот двухтомник вошли 217 авторов (считал с карандашом, мог ошибиться на одного-двух).
Из обескураживающей аннотации к «Русским верлибрам» можно сделать несколько выводов. Самый простой — перед нами трюк, рассчитанный на привлечение внимания. Другой вариант: составитель книги Вадим Левенталь в самом деле принимает верлибр за свежую новость и берется перетолковать читателю что к чему:
«Если вы не то чтобы следите за современной поэзией… то, открыв эту книгу, вы может удивиться. Какие же это стихи? — скажете вы. — Это же проза, только разбитая на строчки и записанная почему-то в столбик».
Действительно, такая реакция на свободный стих до сих пор не редкость, а просвещение читателя — дело благородное, но зачем притворяться, будто перед нами первые русские верлибры на свете? Тем более что — еще одна странность — не все тексты в этом сборник относятся к верлибру: в подборки Игоря Караулова и Юрия Смирнова попали регулярные, рифмованные тексты.
Левенталь, собственно, и не хочет притворяться: он сам сообщает, что «верлибры вообще говоря появились не вчера и не позавчера» и поминает того же Блока. И тут наконец возникает третья трактовка, требующая смещения акцентов в словах «впервые дали национальное звучание верлибру». Просто все верлибристы до Данилова, Караулова и Смирнова писали верлибры не с национальным звучанием, а с каким-то безродно-космополитическим.
«До недавнего времени девять из десяти верлибров, написанных по-русски, как раз и выглядели как подражание западной, в основном американской университетской поэзии, а то и как неловкий ее перевод. <…> Это у нас „приращение смыслов”, говорили верлибристы. Да нет у вас никакого смысла вообще — говорили им, — одна поза. Известно какая».
Хочется прекратить цитирование и не допытываться, какую именно неловкую шутку недошутил Левенталь, но трудно остановиться. Да, говорит составитель, русского верлибра у нас не было, пока не появились Дмитрий Данилов, Игорь Караулов и Юрий Смирнов. «Вместо того чтобы открыть в русском языке франшизу американского фастфуда, они стали использовать технику верлибра на русском материале, из глубины русской традиции, плоть от плоти русской литературы». Итак, нам предлагают оставить Блока и Айги, кричать «Свободная касса!» и поверить на слово, что явились три богатыря, наконец-то наполнившие верлибрейщину русским духом. В чем эта русскость заключается — догадайся, мол, сама.
Такой подход может заранее подорвать доверие к книге — а жаль, потому что стихи Данилова, Караулова и Смирнова заслуживают внимательного разговора. В том числе и затронутая в них проблематика русского. Разумеется, с точки зрения техники в поэзии того же Данилова нет какого-то особого национального кунштюка. Как и даниловская проза, его стихи — сплав исповеди и каталога, стихийно разворачивающегося вербатима и жесткой риторической структуры. Они длинны, но не безразмерны, Данилов всегда знает, где начать снижать темп и где поставить точку. Русское здесь — тематика, оборотная сторона мифологем. Грустные фантазии о судьбе Белки и Стрелки и о смерти машинистов метро. Любовь к провинциальному футболу, который дополняет, уравновешивает и даже искупает футбол парадный. Ода электровозу ВЛ10 — мифологическому опасному чудовищу («Это не гудок, не сигнал опасности / Это какой-то вой, вопль / В котором весь тысячелетний ужас / Металлических, пластиковых / Стеклянных и деревянных устройств / Предметов, штуковин / Вещей этого мира». Хроника паломничества к святым местам, где благодать приходит совсем не с той стороны, откуда ждешь:
Есть несколько секунд Чтобы оглядеться Вокруг тихий светлый ад Дорожки, скамейки Корпуса Раньше это были братские корпуса И, может быть Настоятельский корпус А сейчас это корпуса Где содержатся сумасшедшие Они все молчат и молчат И надо им что-то сказать Что же им сказать Ну например вот А что, от монастыря уже ничего не осталось Они все молчат и молчат И вот наконец один из них Охранник или сумасшедший Глядя выцветшими белесыми глазами На страшные жестяные барабаны Бывшей Покровской церкви Нехотя говорит Нет, ничего не осталось От монастыря ничего не осталось Нет, был монастырь Но от него ничего не осталось И стало понятно Что теперь надо уходить
<…>
Какое счастье, Господи
Какое счастье
Что удалось добраться
До этого убогого места
До этого страшного
До этого, прямо скажем
Чудовищного места
Более убогого места не сыскать
Нил Сорский специально
Отыскал такое место
Преподобне отче Ниле
Моли Бога о нас
В свою очередь, в первых текстах из подборки Игоря Караулова русскость ставится во главу угла: «Русские неплохие люди, / но у них есть одна отвратительная черта. / Они всегда побеждают». Разумеется, этот дискурс невозможен без постиронии: Караулов — профессиональный поэт, а не ура-патриот с безвестного сайта. В следующем стихотворении читаем о людях, которые сидят на Волге, Шексне и Мологе и смеются «о потерянном граде / сквозь линзу, наполненную водкой» — в противовес собирательному Копенгагену, который по утрам «ездит на велосипеде», «отдает честь каждому гею, / пьет крюшон в музее холокоста». Один штамп против другого — кто кого сборет? Караулов устраивает между ними поединок, любуется несуразностью бойцов, но дает понять, которому принадлежит его сердце. Штампу-супротивнику достается больше иронии обыкновенной, без «пост-». Тот самый американский конфессиональный говорок, который так не мил Вадиму Левенталю, Караулов успешно пародирует:
Потом мы весело встретили Рождество. С коллегой Бобом, с нашими семьями поехали в Инсбрук.
Там Боб сломал позвоночник, неудачно упал на склоне.
Я переспал с женой Боба, Пэт. Мне было очень стыдно, но она была так мила и несчастна.
От постоянно подразумеваемой ухмылки, честно говоря, ощущение примерно такое, как от штампа «люди с хорошими лицами», который в ходе затяжных сетевых баталий ловко превратился в пейоратив. Но в тех текстах, где Караулов не держит в кармане риторическую фигу, он как раз наиболее убедителен. Такие стихотворения, как «Лучший чай» и «Остенде», — точная фиксация впечатлений. Такие, как «Кукушка», «Матиас», «Nightflight to Venus», «Играем Гамлета», — примыкающие к традиции «нового эпоса» законченные истории или фрагменты историй, по которым тянет достраивать целое. Разговор о важном и близком возможен без ерничанья — и, что характерно, тон этого разговора приближен к даниловскому:
Такова душа москвича: влюбчива в города где угодно осталась бы навсегда
Приезжаешь в Саратов — хочется жить в Саратове Приезжаешь в Казань — хочется жить в Казани Приезжаешь в Елабугу — хочется жить в Елабуге
Наконец, Юрий Смирнов в сборнике отвечает за масштабную лироэпическую форму: здесь напечатаны три его поэмы. Верлибрические они только местами — а композиционно выверены насквозь; первая, поэма-ромком «Секретная история любви» — череда автобиографических рассказов о не случившихся по-настоящему любовных отношениях:
Я, хоть убей, не помню, Как ее звали. Где-то лежит альбом из начальной школы, Но я боюсь заглянуть в него. Вдруг ее там никогда не было?
Вторая, поэма-слэшер «Файлы мертвых славян», посвящена войне (Смирнов живет в Кропивницком, бывшем Кировограде). «Файлы» можно встроить в имеющийся — и в значительной части верлибрический — корпус военных текстов украинских русскоязычных поэтов (Борис Херсонский, Анастасия Афанасьева, Ия Кива и другие). Смирнов протоколирует эпизоды войны и рефлексию между ними, монтирует голоса участников конфликта и оставляет за собой артикулированную позицию слушающего. Линия, по которой идет голос, постоянно может сорваться в страх — не только смерти и унижения, но и расчеловечивания. Этот страх лишь едва-едва подернут иносказанием: «Я урод. / Я генетическая игра в трыню. / Я не человек. / Я столб с указателем. / Я дорожная веха. / Я смотрю на трассу и не могу уехать. / Я считаю автобусы. / „Полтава — Валгалла”. / „Черкассы — Долина Асов”».
В третьей, поэме-комиксе «Срочный вызов», киберпанк смешивается с альтернативной историей. Смирнов обыгрывает раннесоветский мотив коллективного тела-великана — тело это в «Срочном вызове» собирается не из живых, а из мертвых, и сами инициаторы советского эксперимента выглядят трагически:
Надя Надя Надя Надя Надя, — Говорит изношенный робот, — Запиши на мою перфокарту «Уничтожить Кобу».
И Данилов, и Караулов, и Смирнов умеют рассказывать истории, то есть работают в той области верлибра, который не столько по формальным, сколько по содержательным признакам граничит с прозой. «Более того, именно как прозу я и рекомендую вам начинать их читать», — пишет Левенталь; я, в свою очередь, рекомендую читать их как поэзию, помня при этом, что в верлибре, вообще говоря, возможно все (кроме ритма и рифмы): это просто способ организации текста — который гораздо чаще не обусловлен идеологией новизны, а органически естествен для конкретной поэтической задачи. Показательно, что из трех представленных здесь авторов прибегает исключительно к верлибру только один. Ни энциклопедией формы, ни манифестом эта книга не стала, но сборником трех интересных поэтов — да.