Евгений ЧЕКАНОВ. В стихии литературного текста. (original) (raw)
— Евгений Феликсович, расскажите, как вышло, что наряду с историей и журналистикой значительное место в Вашей жизни стала занимать литература (собственное творчество, редакторская, издательская деятельность)? А может быть, соединение исторического образования и журналистики этого «литератора» и породило? Обычно истоки — где-то в детстве. Чувствовали Вы, что станете «литератором», будучи еще ребенком? Было ли что-то особенное, «провидческое» у Вас или Ваших близких, связанное с Вашей дальнейшей поэтической судьбой?
— Думаю, что истоки моей привязанности к литературе — в моем детстве, в раннем беспорядочном чтении. Я читал с пяти лет; читал всё, что попадалось на глаза в тех деревнях, поселках, на станциях, где жили мои родители, колесившие по России. Каждую интересную книгу буквально «проглатывал»!
За давностью лет многое уже подзабылось, но и сейчас помню, как, окончив второй класс, ходил летом в библиотеку в соседнее село Воронино, за три километра. Там мне, девятилетнему, разрешали самому выбирать любые книги — и я лазил по полкам, как обезьяна, находя самое интересное. Потом, счастливый, шел с сеткой, полной книг, домой, в деревню Астафьево — полями, через лес. Потом... потом время как бы исчезало... Меня было не найти — я где-то прятался, ничего не делал по дому, не ел, не спал, только читал!
А через день-два отправлялся в тот же путь — сдавать прочитанное и брать новое.
Папа подтрунивал надо мной, звал «книжным червем», но увлеченность мою поощрял. Он и сам очень любил читать, хорошо ориентировался в доступной ему русской классической литературе, множество стихотворений знал наизусть. А ведь окончил Феликс Михайлович, так уж в жизни получилось, всего семь классов.
У мамы моей, Нины Александровны, было высшее образование, она всю жизнь работала учительницей, преподавала ботанику, биологию, географию, — и старалась, по возможности, внести какую-то упорядоченность в мое увлечение чтением. Однако из этого ничего не получалось: я читал то, что хотел, когда хотел, сколько хотел... книги буквально опьяняли меня!
Но началось всё это, повторяю, еще раньше, в самом нежном возрасте. Я и сам-то уж позабыл, когда это началось, но однажды напомнили.
Мне было уже за сорок, когда в мой редакторский кабинет в Ярославле вошли две женщины, постарше меня.
— Это вы — Евгений Чеканов?
— Я.
— А вы в детстве не жили в селе Середа Даниловского района?
— Гм... жил... там я в первый класс пошел... А в чем дело?
— Да вот, знаете, мы в детстве, когда были девчонками, ходили на вас смотреть...
— Смотреть? На меня?
— Да. В нашей деревне говорили, что в соседней Середе живет такой удивительный мальчик Женя Чеканов — ему шесть лет, а он читает толстенные книги и всё понимает. И вот мы специально ходили в Середу, смотреть на вас!..
...Такая вот история с литературой. Когда же я углубился в свою родословную, то понял, что корни этого моего увлечения гнездятся еще глубже. Оказалось, что книжниками в нашем роду были не только мы с папой. Мой дед по отцовской линии, Михаил Андреевич Чеканов, человек с четырьмя классами образования, тоже много читал, любил Лескова, Мельникова-Печерского; прочитав ранние вещи Василия Белова, посоветовал сыну (то есть, моему отцу) обязательно обратить внимание на этого писателя: «Хорошо пишет!».
А когда я порылся в фондах Рыбинского архива, то обнаружил, что дед Михаила Андреевича, мой прапрадед Яков Андреевич, крестьянин пришекснинской деревни Верхнее Березово, единственный на всё селение столяр, выписывал на дом журнал «Нива» и некоторое время служил писарем в волостном правлении. А в писаря брали не кого попало, только грамотеев.
В общем, всё это шло очень издалека... Мои «предлитературные» корни петляли «где-то под землей» и однажды непременно должны были выбросить наверх зеленый росток. Вот таким ростком я себя и ощущаю в нашем чекановском роду.
История с журналистикой вошли в мою жизнь значительно позже. А провидческое... У меня есть стихотворение о том, как моего девятнадцатилетнего отца провожали в армию — и тут он впервые решился прочитать своим родным написанное незадолго до того собственное стихотворение. Так сказать, явить себя в качестве поэта. Он прочитал — и вот что затем произошло:
Дед, заплакав, сказал: «Наша кость!
Слава Богу, в роду занялось —
И теперь не погаснет вовеки.
Тридцать лет пролетят или век —
Будет в нашем роду человек...
Все мы сбудемся в том человеке!»
Так гласит родовая молва.
И заветные эти слова
На излете тридцатого года
Разбудили мое забытье,
И постиг я призванье свое:
Стать событием нашего рода.
Не гордыня неволит меня —
Вечной памяти жаждет родня,
Все, что доброго слова достойны.
Я клянусь на скрижалях семьи:
— Досточтимые предки мои,
Все вы сбудетесь!.. Будьте покойны.
— Чувствуете ли Вы как поэт какую-то высокую миссию, связанную со своим творчеством? Был ли Ваш «взрослый» жизненный путь «особенным», отличным от пути многих ровесников?
— Внешний рисунок моей жизни — крайне прост, незамысловат. Ну, рос на Ярославщине русский мальчик, читал книжки, окончил вуз, работал всю жизнь провинциальным газетчиком... что тут интересного? Если же говорить о высокой миссии поэта, то, безусловно, да, такое ощущение у меня есть. Думаю, это чувствуется и по моим стихам... а вот что именно несет миру мое творчество (если несет) — об этом судить, конечно, не мне. Мое дело — творить и равняться на высокие образцы... а свои пораженья от своих побед я сам не должен отличать.
«Пиши, будь искренним, вот и всё», — сказал мне однажды мой учитель.
Так стараюсь и поступать.
— А ощущаете ли Вы сами некую предопределенность в Вашей литературной судьбе? Если бы Вы не были поэтом, редактором или издателем, кем могли бы стать?
— Да, предопределенность есть... и очень хорошо, что всё так сложилось. Я, конечно, мог бы в русской провинции стать и кем-то другим, меня ведь в юные годы учили и дизельной электростанцией управлять, и паровым котлом... но всё это я делал бы значительно хуже. А вот в стихии литературного текста я чувствую себя как рыба в воде... я его чувствую, текст!..
— Вы известны своим знакомством и дружбой с Юрием Кузнецовым. Были ли в Вашей жизни и другие встречи такого масштаба (наложившие отпечаток на всю последующую жизнь)?
— Нет, ничего подобного больше никогда не было. Я был знаком со многими известными в СССР литераторами, мои стихи западали в память Владимиру Крупину, Юлии Друниной, Евгению Евтушенко, ко мне хорошо относились и много меня публиковали Сергей Викулов и Станислав Куняев, я дружески переписывался с поэтами-фронтовиками Владимиром Жуковым и Виктором Кочетковым... Но Юрий Кузнецов — это было что-то принципиально иное в моей жизни... это был мощный порыв ветра, взметнувший меня высоко-высоко... Да какой там ветер — это был вихрь, ураган!..
— Хочу от всей души поздравить Вас с новой книгой стихотворений! Можно ли сказать, что лирический герой этой книги тождествен автору и сборник этих стихов — Ваша духовная биография?
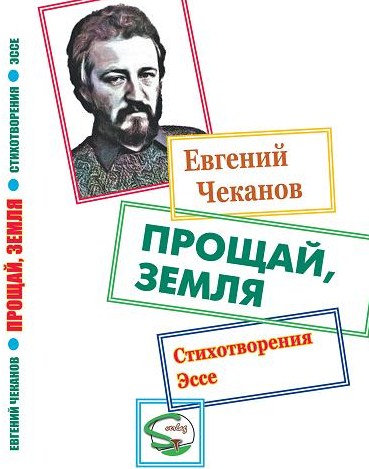
— Спасибо! Я и сам рад, что эта книга, наконец-то, вышла. Собрал под одной обложкой, как мне кажется, все свои лучшие (на сегодняшний день) стихи. Очень многое отбросил, забраковал.
Лирический герой всегда в чем-то тождествен автору, иначе и быть не может. В моем случае, как мне кажется, дело обстоит так: лирический герой книги «Прощай, земля» взял у меня, как у человека, очень много хорошего, высокого.
Да, эта книга — отпечаток моей духовной биографии. Но я живу дальше, пишу новые стихи и, надеюсь, расту над собой вчерашним.
— А не оскорбляет ли патриотические чувства то, что книга вышла в Германии?
— Нет. А что тут оскорбительного? Все (или почти все) опубликованные в этой книге стихи я ранее опубликовал в России. А теперь любой желающий познакомиться с моим творчеством может еще и зайти на германский книготорговый сайт buchhandel.de, найти мою книгу в базе данных и приобрести этот томик.
— Ваша книга переполнена персонажами: портреты, собеседники, прохожие… Трудно ли Вам долго оставаться одному, наедине с самим собой?
— Нет, не трудно. Я себе не противен. Кроме того, одиночества нет вообще. Как писал Рубцов: «Я не один во всей вселенной — со мною книги и гармонь». Всегда найдется кто-то — в книгах, в памяти, в судьбе — с кем можно и поспорить, и согласиться, над чьими словами можно задуматься.
Но я, это правда, люблю общение. Очень люблю. Это тоже — от отца, от деда, от компанейских, доброжелательных предков моих. Никакого «угрюмства» во мне нет и в помине!
— Многие Ваши стихотворения напоминают своеобразные «лирические размышления», «поэтические советы». Расскажите читателям «Паруса», как происходит процесс их рождения. Вы делаете наброски, думаете над композицией, сочетанием слов — или строчки приходят целиком?
— Как рождаются мои стихи? Чаще всего, это происходит так: под влиянием некоей эмоции, подчиняющей всё мое существо (пусть на очень короткое время), ко мне приходит пропитанная внутренней музыкой какая-то строчка... Не слово и не образ — а строчка. Я мгновенно ощущаю, что «оно пришло» — и начинаю петь эту строчку внутри себя, вертеть и так, и этак... Очень быстро выясняется, что какой-то один вариант — самый лучший: он и поется, и проговаривается без запинки, и почему-то уже изначально насыщен аллитерациями... Тогда я, чуть поостыв, «отхожу» от этой строчки, смотрю на нее и думаю: а что же это у меня «сказалось»? О чем это, «в какую сторону оно дышит»?
При этом я безусловно верю правоте этой запевшей во мне строчки — верю всему, что ею явлено. Я никогда не сомневаюсь в правильности и необходимости того, что «пришло», даже если час назад я чувствовал нечто прямо противоположное. Раз «оно» пришло, значит, оно хотело и имело право сказаться, и я — инструмент для сказывания — не имею права его «гасить». Напротив, я должен совершить усилие (или максимально расслабиться), чтобы «оно» вышло на Божий свет неповрежденным — таким, каким оно само хочет родиться.
Но потом — и одновременно с «родами» — я все-таки думаю: а что же это такое «сказалось», чего же «оно» хочет? Начинаю пристально всматриваться, вслушиваться в рожденное — и вижу, что оно является веткой (или корнем, или цветком) какого-то растения... И как-то сразу (опыт есть, все-таки) понимаю, что это за растение, как оно выглядит, из чего состоит, и в каком месте этого растения находится моя первоначальная ветка... Дальше — дело техники: «вырастить» из ветки всё растение, с тем же тоном коры, с теми же цветом и рисунком листьев, с тем же запахом... Всё непременно должно идти от первоначальной, изначально «правильной» ветки, никоим образом не противоречить ей...
Можно объяснить и иначе: пришедшая ко мне из хаоса гармоническая строчка всегда является для меня тем «кирпичиком», из которых возводится потом всё здание стихотворения. Причем, если изначально мне дан «кирпичик», то всё здание непременно строится из «кирпичиков», а не из «шлакоблоков» или «бревен». А вот если изначально дан «шлакоблок», то «здание» строится только из «шлакоблоков». Так достигается единство образа.
Иногда бывает, что первоначальная ветка потом отсекается или маскируется; часто бывает так, что здание возводится без особого труда, просто растет на глазах, успевай только записывать варианты...
Потом... потом свежеиспеченной строфе — или стихотворению в целом — надо дать остыть, полежать в тишине. Иногда всё это лежит годами. Потом берешь в руки, читаешь: если уже не «задевает», не рождает эмоций, значит, можно эту заготовку выбросить. Или пусть полежит еще. А вот если «задевает», то начинаешь дорабатывать. Делать это — легко и приятно, ведь главное уже достигнуто...
Ммм... даже говорить об этом приятно!..
— Евгений Феликсович, считаете ли Вы, что подлинное искусство должно быть (или является таковым по сути) — религиозно? Или религия и творчество — несовместимы?
— «Вся культура — из храма», — сказал Джеймс Фрэзер. «Стихи — это молитвы», — сказал Александр Блок. Мне почти нечего добавить... но, все-таки, попробую.
Вернемся к предыдущей теме — к тайне рождения стихотворения. Откуда я, поэт, взял, что моя изначальная ветка-строчка — «правильна»? Откуда взялось мое убеждение, что она правильна? Ведь я этого не «знаю», я просто это чувствую, верю в это. Это — вера, а не знание, подтвержденное опытом. И вера неколебимая. Вот вам и первый элемент религиозного сознания человека творящего.
Далее. Откуда берется моя убежденность в том, что эта «ветка» непременно должна быть частью «растения», эта строчка — частью стихотворения? Из наблюдения за окружающим миром? А с чего я, поэт, взял, что мир и стихотворение создаются по одному алгоритму?
Но я ведь в этом убежден! — и мое убеждение религиозно: я даже мысли не допускаю, что всё может быть иначе, такая мысль для меня — ересь.
Далее: отчего я уверен, что запевшая во мне строчка должна непременно выйти на свет? Кто хочет этого, чья воля тут довлеет? Явно не моя. Этого, как я чувствую, хочет Бог, избравший меня инструментом в процессе высвобождения гармонических звуков из безначального хаоса.
Значит, здесь я, поэт, контактирую с Богом, являюсь частью канала связи с Ним... это ли не общение со сверхъестественным?
Последнее: зачем вообще нужна поэзия? Зачем земному человечеству — реально живущему пока что по жестким законам социобиологии — искусство, творчество, высокие чувства? Ведь стаду всё это в тягость!
Однако же, проходят тысячелетия — а искусство никуда не исчезает. Вновь и вновь являются на свет творцы прекрасного, не верящие беспощадной логике Лоренца, Уилсона и Докинза... и детское неверие этих творцов — есть религия.
— Зато в знаменитом кузнецовском разговоре Вы принимаете сторону «поэта», а не «монаха». Почему? И корректна ли вообще такая противопоставленность эстетического и религиозного?
— Я сам — поэт, а не монах, мне Бог велит стать на сторону своих. А если серьезно, то в том-то и дело, что в основе поэтического творчества, на иррациональных глубинах самого «поэтического делания» лежит, как я уже сказал, безграничная вера в Творца. Поэтому еще не ясно, в ком больше истинной веры — в поэте или в монахе (конечно, я имею в виду подлинных поэтов, а не ремесленников-рифмоплетов).
В кузнецовском стихотворении Монах олицетворяет не всю церковь, а только наиболее жесткое, «ригористическое» ее крыло — отрицающее светское искусство как таковое, считающее, что само слово «искусство» происходит не от слова «искусный» — опытный, сведущий, испытанный, достойный одобрения, а от слова «искуситель», то бишь, сатана, дьявол. Например, в своей миниатюре «Христианский пастырь и христианин-художник» известный православный писатель Игнатий Брянчанинов ополчается на «утонченное сладострастие», которым, по его мнению, дышат многие произведения современного ему искусства; в том числе, называет греховным изображение Мадонны, созданное Рафаэлем. Это как раз и есть позиция Монаха из кузнецовского стихотворения. Но ведь в той же миниатюре святителя Игнатия сказано: «Большая часть людей находится в состоянии греховности. Самые праведники подвергаются весьма часто тонким согрешениям». На мой взгляд, отвергать человеческое искусство, духовным вектором которого является движение к познанию Бога — как раз и есть такое вот «тонкое согрешение». А Поэт в стихотворении Кузнецова определяет эту позицию еще проще и точнее: «Загнул юрод!»
В общем-то, современной русской мыслью эта проблема давно решена — и решена в пользу Кузнецова. Есть каноническое богословие — и есть художественное претворение религиозной тематики; подлинный поэт имеет право художественно воссоздавать религиозную проблему без духовной цензуры, ибо художество — творение Бога, поэзия сама по себе — дар Божий. Обратная позиция есть религиозный культурный нигилизм, от которого рукой подать до утверждения: «Вся культура — от дьявола».
В противопоставлении эстетического и религиозного лично я не вижу ничего некорректного, ибо, на мой взгляд, греха нет ни в одном вопросе, грех может быть только в ответе. Но замечу, что в заочном споре Кузнецова с Брянчаниновым первым противопоставил эстетическое и религиозное именно Брянчанинов.
Скажу еще: даже если русский христианский философ Брянчанинов и прав, отчего бы русскому поэту Кузнецову и не поспорить с ним! Эка беда! Это обычный «спор славян между собою»…
— Довольно часто Вы употребляете такие слова, как «стадо», «быдло»… Даже в одной из Ваших заметок (http://parus.ruspole.info/node/1771) попался эпитет, заставляющий задуматься о некоей типологии: быдло «футбольно-пивное». Нет ли здесь отзвуков «элитарной концепции искусства», подразумевающей классическое разделение на «элиту», «посвященных», и ведомое ею тупое стадо?
— Да, в моем лексиконе такие слова есть. За ними стоит определенное содержание. Когда я говорю о «быдле», то имею в виду ту часть современного отечественного городского плебса, в системе ценностей которого духовные ценности отсутствуют или стоят на последнем месте. Это те люди, для которых главное в жизни — материальное благополучие, деньги, удовольствия, для которых слово «культура» — пустой звук. Они презирают людей с тонкой душевной организацией, ненавидят рефлектирующую интеллигенцию, не читают умные книги, не смотрят сложные фильмы, они просты, как грабли — и ежедневно, ежечасно, даже не замечая этого, пытаются навязать нам — принципиально иным людям — свои взгляды на жизнь, свои нормы поведения.
Недавно мой приятель рассказал мне такую историю: в одном из салонов крупного ярославского торгово-развлекательного комплекса продавец включил, вместо обычной какофонии, серьезную музыку — и по залам полились чудесные звуки. Может быть, это был Григ, может быть, Бетховен. Что же произошло дальше? Уже через пять-десять минут из других залов к продавцу стали один за другим подходить его коллеги. «Выключи “это”, — сказали они, — мы не можем “этого” слышать!»
Быдло не терпит глубины и сложности, быдло не погружается в раздумья, быдло только жрет, пьет, гадит, совокупляется, плодит себе подобных, развлекается и весело грегочет над нами с телеэкранов. И я, называя быдло по имени, преследую лишь одну цель: я хочу, чтобы оно знало, какое чувство переполняет меня при вынужденном общении с ним. Это чувство — чистая, без примесей, ненависть.
Что же касается людей, которые, в силу тех или иных причин, не получили каких-то знаний, не прочли какие-то книги — но сами ощущают эту свою ущербность, не утратили способности учиться, тянутся к новым знаниям, растут над собой, то это слово к ним не относится. «Быдло» — это особи, остановившиеся в своем развитии, нарисовавшие в своем мозгу окончательную картину мира, «не сомневающиеся». А тот, кто сомневается, кто готов спорить и слышать собеседника, кто способен пересматривать свои вчерашние взгляды — тот мой брат.
Чем больше процентная составляющая «быдла» в человеческом обществе, тем быстрее последнее приближается к «стаду», живущему по законам социобиологии. За последние двадцать лет в России, по моим наблюдениям, идет именно этот процесс. Не видеть этого — означает по-страусиному зарывать голову в песок. Я считаю, что надо смотреть правде в глаза, называть кошку кошкой, а быдло — быдлом.
Что же касается концепции элитарного искусства — да, я принимаю понятие «элиты», но с одной существенной оговоркой. Для меня элита — это только духовная элита, и никакая иная. Понимание элитарной культуры как культуры, противостоящей культуре народной, как культуры привилегированных групп общества, принципиально закрытой для других групп, я отвергаю. На мой взгляд, подлинно элитарная культура открыта для всех, хотя «человеку массы» часто нужно совершить духовное усилие, чтобы сделать ее своим достоянием.
Это принципиальный момент — открытость, отсутствие тайны. В одном из своих стихотворений я размышляю над причиной долголетия духовной сокровищницы мира — христианской культуры:
Две тыщи лет от Рождества Христова
Уж миновали… Но открыт для нас
И тайный жар Его земного слова,
И тайный свет Его небесных глаз.
Проникнуть в тайну тщимся до конца мы…
Так в чем разгадка? В том, что тайны нет:
Открыто всё: и таинства, и храмы,
И долголетья этого секрет.
Мне, может быть, скажут: но ты же одобряешь эти строки Блока:
Ты — железною маской лицо закрывай,
Поклоняясь священным гробам,
Охраняя железом до времени рай,
Недоступный безумным рабам.
Отвечаю: да, одобряю, но только когда речь идет о «безумных рабах», о «бедных зверях, называвшихся прежде людьми», о быдле, сознательно отринувшем рай погружения в глубины духа, рай серьезности и сложности. От этих, верно, спасет только железная маска. Для нормальных же людей рай открыт, ибо быдло — это не норма.
— В одном из номеров «Паруса» (http://www.hrono.ru/proekty/parus/chekan0111.php) были опубликованы Ваши «Объяснения» к стихотворениям. В них отчетливо увиделось стремление проанализировать прожитое, прочувствованное и, с высоты нового знания, дать ему оценку. Могли бы Вы сегодня дописать «Объяснения к объяснениям» — или заявленные выводы окончательны? Чувствуете ли Вы, что Ваша мудрость стала «мудрее», мысль проницательнее…?
— «Объяснения» мои — это литературное произведение, написанное в определенном жанре. Русской литературе сей жанр известен со времен «Объяснений на сочинения Державина относительно темных мест, в них находящихся...», написанных самим Гаврилой Романовичем. Моим современникам хорошо известны и «объяснения к объяснениям», примечания к примечаниям, уводящие в бесконечный тупик... и это уже тоже — жанр.
Буду ли я писать в этом или том жанре? Гм... думаю, что если и буду, то не так скоро. Все-таки, значительная часть стихотворений, которые я позднее счел нужным «разъяснить» (булгаковский юмор тут ни при чем), была написана мною в 80-е годы, а тогда у нас еще были Главлит, сибарит и соблазнитель Владимир Солодин и прочие профессиональные искатели скрытой крамолы. В немалой степени шифровка смыслов была обусловлена этими обстоятельствами... точнее говоря — желанием публиковаться в родном Отечестве в этих обстоятельствах. А теперь... что ж, если высокооплачиваемые христопродавцы в мантиях получат приказ утроить усердие, мы вернемся к эзопову языку. Он, кстати, по моим наблюдениям, не менее быстро (и гораздо более продуктивно) доходит до сознания, нежели прямая речь. И уж, во всяком случае, добавляет тексту художественности.
Становлюсь ли я с возрастом мудрее? Надеюсь на это… но во многой мудрости, как известно, много печали. А печальным мне становиться не хочется. Ни печальным, ни угрюмым, ни злобным.
Вот проницательности — да, этого хочется побольше. Буду работать в этом направлении.
— Что считаете непременным условием настоящего творчества?
— Хороший литературный текст должен завораживать!
— Что кажется Вам неприемлемым в художественном творчестве?
— Плохое владение материалом и инструментом.
— В своем эссе «Огненная когорта» (http://www.hrono.ru/proekty/parus/kr_stol.php), которое выражает Ваше творческое кредо, резко противопоставлены те, кто пишет «для прокорма» и «для высоких целей». Осознавая пагубное влияние соц- или индзаказа на художника, тем не менее, вспомним многочисленные факты из истории литературы: нередко бессмертные произведения (Достоевского, например) были писаны именно ради хлеба насущного. Может, не этот критерий является главным для писателя?
— Не согласен с тем, что Достоевский хоть что-то писал токмо ради хлеба насущного. Он просто не мог, не умел этого делать! Кто бы что бы ни говорил по этому поводу, даже сам Достоевский — это не будет правдой.
Всё дело в уровне таланта. Гений, даже если пишет на заказ, все равно сплошь и рядом создает шедевр. «Заказ» для него — хлипкая преграда, которую гений легко обходит. Более того, гений сплошь и рядом закладывает в один из слоев своего создания прямую насмешку и над самим фактом «заказа», и над заказчиком. Иногда он делает это сознательно, а иногда и неосознанно.
Но это — гений, их мало. А вот просто талантливые люди, увы, частенько поддаются соблазну поставить свое перо на службу временному, преходящему... и на глазах читателя с грохотом рушатся с набранных некогда высот. А всё потому, что свою жизненную амбивалентность втаскивают, как грязь на ботинках, в литературу.
Настоящий же писатель — по крайней мере, настоящий русский писатель — садится за письменный стол, оставив всё суетное за дверью своего рабочего кабинета (даже если этот кабинет — холодная кладовка с керосиновой лампой или деревенская банька).
Знаменьем крестным окстил я бумагу. Пора!
Бездна прозрачна. Нечистые, прочь от пера!
Вот с каким ощущением садился за письменный стол Юрий Кузнецов, вот как он относился к слову... А эти?..
— Что бы Вы могли порекомендовать студентам-филологам или журналистам?
— Журналистам я ничего не хочу рекомендовать, мне они не очень интересны. А вот студентам-филологам — да, кое-что хотел бы сказать.
Дорогие филологи! Вы очень много можете сделать для великой русской литературы! В ваших руках — ее судьба! Ей-Богу, я не шучу.
Пожалуйста, отнеситесь к выбранной вами профессии очень серьезно. Не исключено, что именно вы дадите однажды путевку в жизнь новому русскому гению. Или не дадите, по недомыслию.
Хорошие русские прозаики и поэты часто не имеют специального образования, они просто таланты от Бога. Кому же увидеть это, как не вам! Возьмитесь «вырвать из бездны» хоть одного талантливого человека — и вам сторицей воздастся за это.
Бертран Рассел говорил, что русский народ весь, сверху донизу — «народ поэтов и художников». Поработайте над тем, чтобы это так и осталось. Не допустите, чтобы мы превратились в толпу маклеров и рантье!
Ваш нынешний и будущий труд — это служение высоким целям! Равняйтесь на вершины духа!
Беседовала Ирина Гречаник